Home > Chekhov > CHEKHOV TEXTS ON THIS SITE > "An Unpleasantness" by Anton Chekhov (1888)
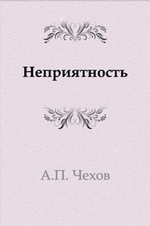 "An Unpleasantness" by Anton Chekhov (1888)
"An Unpleasantness" by Anton Chekhov (1888)
Friday 10 February 2023, by
Grigory Ivanovitch is an experienced doctor who, while doing his rounds at the hospital, is so upset with his incompetent assistant for being drunk on duty that he utterly loses his temper and strikes the fellow. The consequences of this act on the life of the hospital and on the career of the doctor and the assistant, and the play of forces at work in the hospital organisation and in the judicial system – for there are judicial consequences – are the marrow of this story with a strong social content.
An interesting and intricate psychological analysis of the forces at work in the medical system and the society of the time, by a specialist – Doctor Anton Pavlovich Chekhov [1]
(7,200 words)
This story has been translated specially for this site [2].
An e-book, with the Russian text in an annex, is available for downloading below.
The Russian text can also be seen here.
AN UNPLEASANTNESS
The doctor Grigory Ivanovich Ovchinnikov, a thin and nervous man of about 35, known to his companions by his work in medical statistics and for his fervent attachment to so-called "everyday matters," was doing his rounds of the wards in his hospital one morning. He was followed as usual by his medical attendant, Mikhail Zakharovich, an elderly man with a dirty face and flat greasy hair who was wearing an earring.
The doctor had hardly begun his rounds when he began to find one circumstance very suspicious, namely, that the attendant’s waistcoat was torn and was obstinately being tugged upwards, although the attendant kept pulling it back in place. His shirt was wrinkled and in folds, and some down had accumulated on his long black overcoat, on his trousers and even on his tie... Zakharovich had evidently slept through the night without undressing, and judging by the expression with which he was smoothing his waistcoat and readjusting his tie, his clothes were embarrassing him.
The doctor looked intently at him and understood what was the matter. The attendant didn’t stagger about and he answered questions coherently, but the sullen, closed face, the dull eyes, the trembling that was running down his neck and arms, the disorder in his clothes and above all his strenuous efforts to disguise his condition, showed that he had only just gotten out of bed, hadn’t slept well and was drunk, indeed very drunk from yesterday... He was suffering from a painful condition, he was suffering and evidently very dissatisfied with himself.
The doctor, who didn’t like the paramedic and had his own reasons for that, felt a strong urge to tell him, "I see that you’re drunk!" He was suddenly disgusted by the waistcoat, by the long-breasted coat and by the earring in the fleshy ear, but he restrained his anger and asked softly and politely, as he always did:
“Did you give Gerasim his milk?“
“We did..." Mikhail Zakharych replied, also softly.
Speaking to the patient Gerasim, the doctor glanced at the temperature sheet and, feeling a new rush of hatred, held his breath to speak, but finally couldn’t stand it and asked rudely and severely:
“Why hasn’t the temperature been recorded?”
“Yes, it has been!” Mikhail Zakharych said softly, but when he looked at the sheet and saw that the temperature indeed hadn’t ben written down, he shrugged his shoulders in bewilderment and muttered “I don’t know, it must be Nadezhda Osipovna who...”
“And yesterday evening’s temperature isn’t written down either!" continued the doctor. “You’re just drunk, damn you! You’re as drunk as a cobbler! Where’s Nadezhda Osipovna?”
The midwife Nadezhda Osipovna wasn’t in the wards, athough she was supposed to be present every morning during the rounds. The doctor looked around and it seemed to him that the ward was untidy, that everything was in disorder, that nothing had been done, that everything was crumpled and crushed, covered with down like the nasty paramedic’s waistcoat, and he felt like tearing off his white apron, shouting and screaming and then spitting and leaving. But he made an effort and continued his rounds.
Gerasim was followed by a surgical patient with inflammation of the skin in his entire right arm. This one needed bandages. The doctor sat down on a stool in front of him and attended to his arm.
"It was yesterday that they were celebrating a name day..." he thought as he slowly removed the bandage. "Just wait, I’ll show you the name-day party! What can I do, though? I can’t do anything!" He fumbled with an abscess on the swollen, purple hand and said:
"Scalpel!”
Mikhail Zakharych, trying to show that he was firmly on his feet and fit for duty, rushed over and quickly handed him a scalpel.
"Not that one! Give me one of the new ones!" the doctor said.
The attendant rushed over to a chair on which there was a box of medical affairs and began hastily rummaged through it. He whispered at length about something with the nurses, moved the box about on the chair, rummaged in it, dropped something twice, and the doctor sat there waiting and felt a strong irritation mounting up in him about the whispering and the rustling.
"Will it be soon?" he asked. "You must have forgotten them downstairs..."
The paramedic ran up to him and handed him two scalpels, not preventing himself from breathing heavily in the doctor’s direction.
"These are the wrong ones!" the doctor said irritably. “I’m telling you in plain Russian, give me the new ones! Never mind, just go away and sleep it off, you stink as if you were in a tavern! You’re mad!”
“What other knives do you want?” The paramedic asked angrily, slowly shrugging his shoulders. He was embarrassed and ashamed to see the patients and the nurses staring at him, and to show that he wasn’t ashamed he grinned forcibly and repeated: “What other knives do you want?”
The doctor felt tears coming into his eyes and trembling in his fingers. He made an effort to be calm and spoke in a trembling voice:
“Go and sleep it off! I don’t want to talk to a drunk...”
“You can only criticize me for my work," the paramedic continued, "but if, let us say, I’m drunk, you can’t tell me what to do. Am I not a medical attendant? Well, what else can you say? I am, aren’t I?”
The doctor leapt up and, not conscious of his own movements, swung around and slapped the attendant in the face as hard as he could. He didn’t know why he did it but felt great pleasure at the fact that the blow came right in the other’s face and that the fellow, a respectable, upright family man, pious and self-respecting, swayed, bounced back like a ball and sat down on the chair. The doctor longed to hit him again, but seeing the pale, anxious faces of the nurses beside that hated face, he ceased to feel any pleasure, waved his hand and ran out of the room.
In the yard he met the 27-year-old Nadezhda Osipovna who, with a pale, yellowish face and unruly hair was on her way to the hospital. Her pink chintz dress was very tight in the hem, which made her take small and frequent steps. She rustled her dress, jerked her shoulders in time with each step that she took, and shook her head as if she were mentally humming something cheerful.
"Aha, the mermaid!" thought the doctor, remembering that in the hospital the midwife was teased as a mermaid, and he was relieved at the thought that he was about to cut off this small-stepping, self-loving dandy.
“Where the devil have you been?” He shouted as he approached her. “Why aren’t you in the hospital? You haven’t recorded the temperatures, everything’s a mess, the medical attendant is drunk and you sleep until twelve o’clock!... You’ll have to find work somewhere else! You don’t serve here any more!”
On arriving in his apartment the doctor tore off his white apron and the towel that had been tied around him, threw them both in anger into a corner and paced about his study.
“Lord, what people, what people!” he muttered. “They’re not assistants, but enemies of the cause! I have no strength to serve any longer! I can’t serve! I have to go away!”
His heart was beating violently, he was trembling and he wanted to cry, and to get rid of these feelings he began to calm himself with thoughts of how right he was and how well he’d done in hitting the paramedic. First of all, the doctor thought, it was disgusting that he hadn’t simply entered service in the hospital but had done it under the protection of his aunt, who was a nursemaid in the house of the chairman of the local government (it was repulsive to him to even look at that influential aunt when she came to be treated and behaved there as if she were at home, pretending that she wasn’t taken out of turn). The paramedic’s poorly disciplined, knows little and doesn’t understand at all what he thinks he does know. When he’s sober he’s impudent, untidy, takes bribes from the patients and secretly sells hospital medicines. It’s also well known that he practices on the side and cures secret illnesses in young citizens, using some of his own remedies. He’s not just a charlatan, of whom there are many, he’s also a charlatan with convictions and hidden resentments. He secretly draws blood for people who come to see him, he’s always present at operations with unwashed hands, and he’s constantly picking at wounds with a dirty probe – that’s enough to understand how deeply and how completely he despises the medical profession with its scholarliness and its pedantry.
Having waited until his fingers stopped trembling, the doctor sat down at the table and wrote a letter to the Chairman of the Board:
"Dear Lev Trofimovich, if after receiving this letter your Board will not dismiss the paramedic Smirnovsky and will not give me the right to choose my own assistants, I shall consider myself forced (not without regret, of course) to ask you to no longer consider me to be the doctor of the Nth hospital and to search for my successor. Regards to Lyubov Feodorovna and Yusu.
Respectfully G. Ovchinnikov.”
Having reread the letter, the doctor found that it was short and not cold enough. In addition, the homage to Lyubov Feodorovna and Yusu (as the chairman’s youngest son was teasingly called) in a businesslike, official letter was more than inappropriate.
"Who the hell is that Yusu?" the doctor said to himself, tore up the letter and started to compose another one. "Gracious sir..." he thought, sitting by the open window and looking out at the ducks and ducklings who were hurrying along the road, wobbling and stumbling, probably going toward the pond; one duckling picked up a piece of intestine on the road, choked on it and raised an anxious squeak; another ran up to him, took out his mouth gut and choked on it too... Far away by the fence, in the laced shade cast on the grass by the young linden trees, the cook Daria was wandering about and gathering sorrel for green soup... Voices were heard... The coachman Zot with his reins in his hand and the hospital attendant Manuilo in his dirty apron were standing near the barn, talking and laughing about something.
"They’re talking about me hitting the paramedic..." thought the doctor. “Today the whole county will already know about the scandal... So: "Dear Sir! If your board won’t dismiss…"
The doctor knew very well that the board wouldn’t trade him for a paramedic in any case, and that they would rather not have a paramedic in the entire county than lose such an excellent man as he, Dr. Ovchinnikov. Leo Trofimovich would probably come to see him in his coach as soon as he received the letter, and would say: "What on earth do you think you’re doing? My dear, what on earth is the matter with you? What for? What for? Where is he? Bring him here, the rascal! Send him away! Make sure he’s chased away! I don’t want him here tomorrow, the bastard!" Then he’d have dinner with the doctor, and after dinner he’d lie down on this crimson sofa with his stomach upwards, covering his face with a newspaper and snoring, and then he would drink tea with him and take him to his room for the night. And the whole story would end with the paramedic remaining in the hospital and the doctor not resigning.
But that wasn’t the result the doctor wanted deep down in his heart. He would like the assistant’s aunt to triumph and that the board would accept his resignation without question and even with pleasure, in spite of his eight years of faithful service. He dreamed of how he would be leaving the hospital to which he was so accustomed, how he would write a letter to the Chairman of the Board, how his comrades would give him a sympathetic parting ceremony...
The mermaid-midwife was coming down the road. With a fine stride and much rustling of her dress she came over to his window and asked:
“Grigory Ivanovich, will you be visiting the patients yourself or should it be done without you?”
And her eyes were saying: "You’ve over-reacted and now you’ve calmed down and are ashamed of yourself, but I’m magnanimous and don’t notice it.”
“All right, I’ll be right along," said the doctor.
He put his apron on again, wound a towel around himself and went to the hospital.
"It’s bad that I ran away after I hit him," he thought drearily. “It looks as if I were embarrassed or frightened... I acted like a schoolboy... it was very foolish of me!"
He thought that when he entered the ward the patients would be embarrassed to look at him and that he’d feel ashamed of himself, but when he went in there the patients were lying peacefully on their beds and barely noticed him. Gerasim’s sickly face expressed complete indifference, as if to say: "He didn’t please you, so you taught him a little lesson... Otherwise it’s not possible, father!”
The doctor opened two pustules on the scarred arm and bandaged the wounds, then he went to the women’s ward where he operated on a woman’s eye, and all the time the mermaid-midwife followed him and helped him, seeming as if nothing had happened and that everything was all right. After the tour of the wards there was the reception of incoming patients. The window was wide open in the doctor’s small waiting room. One just had to sit by the window sill and to bend down slightly to be able to see a foot of young grass. There’d been a heavy downpour last night with a thunderstorm, so the grass was a little crumpled and shiny. The path that ran close by the window and led into the ravine seemed washed-out, and broken pieces of pharmaceutical dishes that were scattered along its sides had also been washed clean and were playing with the sun, emitting blindingly bright rays. Farther along the path young fir trees, clothed in luxuriant green, were huddling together while behind them there were birches with trunks as white as paper, and the fathomless blue sky couldn’t be seen clearly through the light fluttering of the birch-tree leaves. When one looked out the window the starlings that were hopping along the path turned their silly noses towards the window to decide whether to be frightened or not. And having decided to be frightened they rushed to the tops of the birches one by one with a merry cry, as if making fun of the doctor who couldn’t fly...
Through the heavy smell of iodoform one can feel the freshness and scent of a spring day... that’s good to breathe!
“Anna Spiridonova!” the doctor called out.
A young woman in a red dress came into the waiting room and prayed before the image on the wall.
“What’s troubling you?” the doctor asked.
The woman looked sceptically at the door through which she’d entered and then at the door to the pharmacy, came closer to the doctor and whispered:
“No children!”
“Who hasn’t signed up yet?” the mermaid was shouting in the pharmacy next door. “Come and sign up!”
"He’s such a bastard!" the doctor thought as he examined the woman, "He made me fight for the first time... I’ve never fought before in my whole life!"
Anna Spiridonova left, and after her came a seriously-ill old man and then a woman with three children with scabies, and the work churned on. The paramedic didn’t appear. On the other side of the door to the pharmacy the mermaid was merrily chirping, rustling her dress and clinking her dishes; now and then she came into the waiting-room to help with operations or to take prescriptions with an air as if all were well.
"She’s glad that I hit the paramedic," the doctor thought, listening to the midwife’s voice. "After all, she and the paramedic have been fighting like cats and dogs and it would be a feast-day for her if he gets sacked. And the other nurses seem to be glad about what happened... How disgusting!"
In the middle of the reception session it began to seem to him that the nurses and the attendants and even the patients were deliberately trying to give themselves an indifferent and cheerful expression. It was as if they understood that he was ashamed and in pain, but out of sensitivity they pretended not to understand. And, wanting to show them that he wasn’t ashamed at all, he shouted angrily:
“Hey, you there! Shut the door, it’s getting cold!”
But he was ashamed, and embarassed. After having treated forty-five patients he slowly left the hospital. The mermaid-midwife, who’d already been in her apartment, was hurrying out of the yard with a crimson scarf over her shoulders, a cigarette in her mouth and a flower in her loose hair, probably going on a visit. Patients were sitting in silence on the doorsteps of the hospital and basking in the sun. The starlings were still whirling about and chasing insects. The doctor looked around and thought that among all those smooth, serene lives only two stood out sharply like two ruined piano keys that were good for nothing: the paramedic’s and his own. The paramedic has now probably gone to sleep it off, but no doubt he’s had trouble getting any sleep from thinking that he’s guilty, has been insulted and has lost his place. His own situation was excruciating. He, who’d never hit anyone before, felt as if he’d lost his innocence forever. He no longer blamed the paramedic or excused himself, but just wondered how could it be that he, a respectable man who’d never even hit a dog, could strike someone? When he arrived in his apartment he lay down on the sofa in his study facing the backrest, and began to think:
"He’s an awful man, harmful for the practice; in the three years that he’s been serving I’ve had a lot on my mind, but nevertheless my agression can’t be justified in any way. I’ve acted like a bully. He’s my subordinate, is guilty and was drunk, and I’m his superior, I was in my right and was sober... So I’m in a stronger position. However, I hit him in front of people who regard me as an authority, and in that way I’ve set a disgusting example to them...".
The doctor was called to dinner... He ate a few spoonfuls of soup and, getting up from the table, lay down on the sofa again.
"What shall I do now?” he continued to think. “I’ve got to give him satisfaction as soon as possible... But how?” As a practical man he considered duels to be nonsense and couldn’t understand them. “If I were to ask him to excuse me in that same room, in front of the nurses and the patients, it would just satisfy me, but not him; he, a mean man, would consider my apology to be an act of cowardice and would no doubt make a complain against me to the direction. Besides, my apology would upset the discipline of the hospital. Should I offer him some money? No, that would be immoral and simple bribery. If I were to appeal to my direct superior, the Board of Directors, for a solution... They could reprimand me or dismiss me... But they wouldn’t do that. And it’s not convenient to involve the Board in the intimate affairs of the hospital, and in any case the Board has no right to intervene... ".
The doctor went to the pond for a swim about three hours after lunch and thought:
"Shouldn’t I do what everyone else does under similar circumstances? That is, let him sue me! I’m definitely guilty, I won’t defend myself and the magistrate will give me a prison sentence. That way the offended person will be satisfied, and those who think I’m an authority will see that I was in the wrong!"
The idea appealed to him. He behan to feel happy that the matter had been resolved safely and that there could be no fairer solution.
"Well, splendid!” he thought as he climbed into the water and watched the flocks of green-and-golden little fish fleeing away from him. “Let him sue... It’s all the more convenient for him that our official relations are already broken off and that one of us can no longer remain in the hospital after this scandal in any case…"
In the evening the doctor ordered a carriage to go to the military commander’s house to play whist. As he was in his office with his hat and overcoat on and putting on his gloves, ready to go out, the outer door creaked open and someone stepped noiselessly into the front room.
“Who is it?” The doctor asked.
“It’s me," the man said in a muffled voice.
The doctor’s heart suddenly began to thump, he shivered all over with shame and a strange sense of fear. Mikhail Zakharych, the paramedic, coughed lightly and came into his office. After a period of silence he said in a muffled, guilty voice:
“Forgive me, Grigory Ivanovich!”
The doctor was confused and didn’t know what to say. He realised that the paramedic hadn’t come to him to grovel and to ask forgiveness out of Christian humility, nor to destroy the offender with his humility, but simply out of calculation: "I’ll make an effort, ask for forgiveness, and maybe they won’t chase me away and deprive me of my piece of bread..." What could be more insulting to human dignity?
“Excuse me..." the paramedic repeated.
“Look..." the doctor said, trying not to look at him and still not knowing what to say. “Look here... I’ve insulted you and... and I have to be punished, to satisfy you... you don’t acknowledge duels... as a matter of fact I don’t acknowledge duels myself either. I’ve insulted you and you... you may complain against me to a justice of the peace, and I’ll be punished... But we can’t both stay on here... One of us, you or I, must leave! (My God! That can’t be what I’m saying! the doctor said to himself, horrified. How stupid of me, just how stupid!) In a word, you have to sue! We can no longer serve together... It’s either me or you... Register a complaint tomorrow!”
The paramedic glanced sullenly at the doctor, and in his dark, muddy eyes flashed the utmostly frank contempt. He’d always regarded the doctor as an impractical, capricious little boy, and now he despised him for trembling, for the incomprehensible confusion in his words.
"And sue," he said sullenly and angrily.
"Yes, and sue!”
"Do you know what? I won’t! I won’t sue... You had no right to fight. You should be ashamed of yourself! Only drunken men fight, and you’re an educated man...”
All his hatred suddenly surged up in the doctor’s chest, and he shouted in a voice not quite his own:
"Get out!"
The paramedic reluctantly got up from his chair as if he had something else to say, went into the hall and paused there in thought. And, having thought of something, he resolutely left.
“How stupid, how stupid!” – the doctor muttered to himself as he left. “How stupid and vulgar it all was!”
He felt that he was behaving like a youth with the paramedic now, and he realised that all his thoughts about the trial weren’t clever, weren’t solving the question but only complicating it.
"How foolish I’ve been!” he thought, while sitting in a carriage and then when he was playing whist at the military chief’s house. “Am I so little educated and so little acquainted with life that I’m unable to solve this simple question? Well, what should I do?"
The next morning the doctor saw the paramedic’s wife getting into a carriage to go somewhere, and thought, "She’s going to see his aunt. Let her go!"
The hospital was managing without the paramedic. An letter had to be written to the board, but the doctor still couldn’t think of the form of the letter. Its meaning should now be as follows: "Please dismiss the paramedic, although he’s not to blame but I am...” It was almost impossible for a decent person to express that idea in a way that wouldn’t be silly or embarrassing...
Two or three days later the doctor learned that Lev Trofimovich had received a complaint about him. The chairman didn’t allow him to say a word, had stamped his feet and had escorted Lev Trofimovich out by shouting: "I know you! Out! I don’t want to hear about it!" The paramedic, without mentioning the slap and without asking anything for himself, had informed the council that the doctor in his presence had talked badly about the council and about the chairman, that the doctor didn’t treat the patients correctly, that he travelled about inappropriately, and so on. On hearing this, the doctor laughed and thought: "What an idiot!" and felt ashamed and sorry for the foolishness of the paramedic: the more foolish things a man did in his defence, the more defenceless and weak he was.
Exactly one week afterwards the doctor received a summons from the Justice of the Peace.
"That’s very stupid!" he thought as he signed for it. "It couldn’t be any stupider than that!".
As he drove to the courtroom on a cloudy, quiet morning he was no longer ashamed of himself but annoyed and disgusted. He was angry with himself, with the paramedic and with the circumstances...
“I’m going to tell the court: Go to hell, all of you!” He was very angry. “You’re all donkeys and you don’t understand anything at all!”
As he drove up to the courtroom he saw on the threshold his three nurses who had been summoned as witnesses, and the midwife. At the sight of the nurses and the cheerful midwife, who was shifting from one foot to the other with impatience and whose eyes even flashed with pleasure at the sight of the protagonist of the forthcoming trial, the angry doctor wanted to swoop down like a hawk and stun them with: "Who gave you permission to leave the hospital? Go home at once!", but he restrained himself and, trying to appear calm, made his way through the crowd of people into the courtroom. It was empty and the justice’s chain was hanging on the back of a chair. The doctor went over to the clerk’s room. There he saw the clerk, a young man with a scrawny face and a jacket with bulging pockets, and the paramedic sitting at a desk, flicking through certificates of conviction. At the doctor’s entrance the clerk stood up; the paramedic was embarrassed and stood up too.
“Has Alexander Archipovich come in yet?” the doctor asked, embarrassed too.
“Not yet. He’s still at home..." answered the clerk.
The courthouse was located in one of the buildings of the estate of the Justice of the Peace; the judge lived in a large manor nearby. The doctor left the courtroom and walked leisurely over to the manor. He found Alexander Archipovich in the dining-room with a samovar. The magistrate, who was standing beside a table without a jacket or waistcoat on and with his unbuttoned shirt open on his chest, was holding the samovar in both hands, and while pouring himself a glass of tea as dark as coffee asked him:
"Would you like it with sugar or without?”
A long time beforehand the man of justice had served in the cavalry; after his long years of service he now held the rank of a civil officer but he still hadn’t abandoned either his military uniform or his military habits. He had a long moustache, striped trousers, and all of his actions and words were imbued with a military demeanour. He spoke with his head slightly tilted back, accompanied his speech with a rich general’s “Mmm...”; he shrugged his shoulders and played with his eyes, shuffled his boots and gently and softly tinkled his spurs as if every sound of his spurs caused him intolerable pain. He had the doctor sit down for tea and while stroking his broad chest and stomach and sighing deeply he said:
“Well, would you care for some vodka and something to drink, Mmm?”
“No, thank you, I’m not hungry.”
Both felt that they were about to have talk about the hospital scandal, and they both felt uncomfortable. The doctor was silent. The man of justice made a graceful wave of his hand to catch a mosquito that had stung him in the chest, looked carefully at it from all sides and released it, and sighing deeply raised his eyes to the doctor’s asked in an orderly tone of voice:
“See here, why don’t you just chase him away?”
The doctor caught a note of sympathy in his voice; he suddenly felt sorry for himself and tired and broken from the turmoil of the past week. With an expression as if his patience had finally run out he got up from the table, irritably shrugged his shoulders and said:
"Send him away? How you all reason, by God... Amazing how you all reason! How can I chase him away? You sit there and think I’m the boss of this hospital and that I can do what I want! It’s amazing how you all reason! Can I chase away a paramedic when his aunt is Lev Trofimych’s nanny, and when Lev Trofimych needs such informants and lackeys as this Zakharych? What can I do if the local council puts us doctors at a disadvantage, if it throws logs under our feet at every step? Damn them, I don’t want to serve any longer, that’s all! I just don’t want to!”
“Well, well, well... You, my soul, are giving it too much importance, so to speak...”
“The Director is trying hard to prove that we’re all nihilists – he spies on us and treats us like his clerks. What right has he to come to the hospital in my absence and question the nurses and the patients? Isn’t that insulting? And that fool of yours, Semyon Alekseich, who does his own plowing and doesn’t believe in medicine because he’s healthy and as strong as an ox, calls us freeloaders to our faces and reproaches us for a piece of bread! The hell with him! I work from morning till night, I have no rest, I’m more needed here than all those fools, saints, reformers and other clowns put together! I’ve lost my health at my work, and instead of gratitude they reproach me with a piece of bread! I thank you most humbly! And everyone thinks he has the right to stick his nose into my business, to teach me lessons and to control me! That member of your council, Kamchatsky, reprimanded the doctors at the council assembly because we order a lot of potassium iodide, and he advised us to be careful when using cocaine! What does he know about it, I ask you? What does he care? Why doesn’t he teach you to how to judge?”
“But... well my soul, he’s just a boor and a lackey... You mustn’t pay any attention to him...”
“A boor, a lackey, and yet you chose that whistle-blower as a member of the Board and let him stick his nose into everything! You’re smiling! You think it’s all trifles, nothing but trifles, but you should understand that there are so many trifles that life is made up of them like a mountain of sand! I can’t go on! I can’t, Alexander Arkhipych! A little more and I assure you, I’ll not only hit people in the face, but I’ll also shoot them! Understand that I don’t have wires in me, but nerves. I’m a human being, just like you...”
The doctor’s eyes filled with tears and his voice trembled; he turned away and stared out of the window. A silence ensued.
“Mmm...yes, my dear," the worldly man muttered in thought. “On the other hand, if you look at it coldly..." the judge caught a mosquito, squinted his eyes hard, looked at it all around, squeezed it and then threw it into the spitoon ... "You see, there’s no sense in chasing him away. If you chase him away there’ll be another like him in his place, and probably worse. You can change a hundred men, but you won’t find any good ones... All of them are scoundrels!" (the great man stroked his armpits and slowly lit a cigarette). "This evil must be put up with. I have to tell you that at present you can find honest and sober workers on whom you can rely only among the intelligentsia and among the people, that is, in those two extremes. You may find the most honest doctor, the most excellent teacher, the most honest ploughman or blacksmith, but those in the middle, that is, those who have left the people and haven’t yet reached the intelligentsia, make up the unreliable element. That’s why it’s very difficult to find an honest and sober nurse, clerk, employee, etc. It’s extremely difficult! I’ve served in Justice since the time of the little Tsar Peter and during all the time of my service I’ve never had an honest and sober clerk, though I’ve kept my eyes on them. A people without any moral discipline, let alone principles, so to speak...”
"Why’s he saying that?” the doctor thought. “I’m saying the wrong things to him..."
“Only last Friday, my Dudzinski did something like that, as you can well imagine. He invited some drunks that he knew, and all night long he drank with them in the courthouse. How do you like that? I have nothing against drinking. To hell with you, you can drink, but why let unknown people into your courthouse? Judge for yourself: stealing a document, a bill of exchange, etc., from the files just takes a minute! And what do you think? After that orgy I had to check all the files for two days to see if anything was missing... Well, what can you do with that son of a bitch? Chase him away? Well... How can you guarantee that the next one won’t be worse?”
“And how can I chase him away?” the doctor asked “It’s easy to banish a man just in words... How shall I banish him and deprive him of his bread if I know that he’s a hungry family man? Where will he go with his family?”
"The devil, that’s not what I wanted to say!" he thought, and it seemed strange to him that there was no way that he could fix his mind on any single, definite thought or on any one feeling. “It’s because I’m shallow and I can’t think...”
“The average man, as you call him, is unreliable," the magistrate continued. “We persecute him, we scold him, we smack him in the face, but you have to put yourself in his place. He’s neither a peasant nor a gentleman, neither fish nor flesh, and his past is bitter; at present he only has 25 roubles a month, a hungry family, and a dependent position; in the future he’ll have the same 25 roubles and a dependent position even if he serves a hundred years. He has no education and no property, he has no time to read and no time to go to church, he can’t hear us because we won’t let him come near us. So he lives from day to day until his death with no hope of a better life, starving for lunch, afraid that he’s about to be chased out of his government apartment, not knowing where to put his children. How could he not drink and steal? Where’s the principle in all that?”
"We seem to be dealing with social issues," the doctor thought. “And how clumsily, for God’s sake! What’s the point of all this?"
Bells rang out. Someone drove into the yard, first to the courthouse and then over to the porch of the big manor.
“Here he is," said the man of justice, looking out of the window. “Well, you shall have your come-uppance!"
“Will you please let me go at once?" asked the doctor. “If you want to, you could take my case out of the queue. My goodness, I don’t have the time...”
“All right, all right... But I don’t know yet, my dear fellow, whether I have a case to pursue. Your relationship with the paramedic is, so to speak, official, and you’ve assaulted him in the line of duty. But I don’t know that well enough. Let us now ask Lev Trofimovich.”
Hurried footsteps and heavy breathing were heard, and Lev Trofimovitch, the chairman, an old grey-haired, bald man with a long beard and red eyelids, appeared at the door.
“My respects," he said, panting. “Oh, dear me! Give me some kvass, judge! Death is on me...”
He sank down in a chair but at once sprang up quickly, ran over to the doctor and, gawking angrily at him, began to talk in a shrill tenor voice:
"I’m very, very grateful to you, Grigory Ivanovich! I’m indebted to you, thank you! I’ll never forget it, Amen! That’s no way for a friend to behave! Do as you wish, but it’s not even fair of you! Why didn’t you inform me? Who am I to you? Who? An enemy or a stranger? Am I an enemy to you? Have I ever denied you anything? Eh?”
Staring intently at him and moving his fingers, the chairman drank the kvass, quickly wiped his lips and continued:
"I’m very, very grateful to you! Why didn’t you inform me? If you’d had feelings for me you would have come to me and said in a friendly manner: ‘My dear Lev Trofimych, so and so, I say... Th kind of story and so on...’ I’d have arranged everything and you wouldn’t have had to have this scandal... That fool is full of hemp, he’s been wandering around the county slandering and gossiping with women, and you, shame to say, excuse the expression, started the whole thing, made that fool sue you! Shame, pure shame! Everybody’s asking me what’s going on, how and what, and I, the chairman, know nothing of what you’ve been doing. You don’t even need me! I’m very, very grateful to you, Grigory Ivanovich!”
The chairman bowed so low that he grew red in the face, and then went to the window and shouted:
“Zhigalov, get Mikhail Zakharych over here! Tell him to come here at once!” Stepping away from the window he declared, “This is no good! Even my wife has taken offence, and she’s always been very kind to you. You gentlemen are very clever! You’re always trying to be clever, to be principled, with all sorts of twists and turns, but all you get is one thing: you’re just building shadows...”
The doctor said to him: “You’re trying not to be clever, but what’s your conclusion?”
“What’s my conclusion? Well, it appears that if I weren’t here now you would shame yourself and us too... You’re lucky thatI’m here!”
The paramedic came in and stopped at the threshold. The Chairman went up to him, put his hands in his pockets, cleared his throat and said:
“Ask the doctor’s pardon now!”
The doctor blushed and ran out into the other room.
“You see, the doctor won’t accept your apology!” the Chairman continued. ”He wants you to show your repentance not in words, but in deeds. Do you give your word that from today on you’ll obey and lead a sober life?”
“I do..." the paramedic muttered sullenly.
“Look here! God save you! You’ll lose your place with me in a jiffy! If anything else happens, don’t ask for mercy... Well, go home!”
To the paramedic, who’d already made peace with his misfortune, this turn of events was an unexpected surprise. He even turned pale with joy. He wanted to say something and held out his hand, but said nothing, smiled dully and went out.
“That’s it!” the chairman said. “And there’s no need for a trial.”
He sighed with relief and with a look as if he’d just accomplished a very difficult and important job, glanced at the samovar and the glasses, rubbed his hands and said:
“Blessed are the peacemakers... Pour me a glass, Sasha. However, you’d better give me something to eat first... Yes, and some vodka too...”
“Gentlemen, it’s impossible!” the doctor said on entering the dining-room, still red in the face and twisting his hands together. “It’s... it’s a comedy! It’s disgusting! I can’t do it. It’s better to sue twenty times than to settle matters in such a vaudeville manner. No, I can’t do it!”
“What do you want?” The chairman snapped at him. “To get rid of him? If you like, I’ll chase him away...”
“No, don’t chase him away... I don’t know what I want, but is this, gentlemen, the way to treat life?... ah, my God! It’s excruciating!”
The doctor fidgeted nervously, looked for his hat and, failing to find it, sank back in his chair.
“Excruciating!” he repeated.
“My dear soul," he murmured to himself, "in part I don’t understand you, so to speak; for you’re to blame for this incident! A slap on the face at the end of the nineteenth century is not right, there’s no way around it... He’s certainly a wretch but you have to admit that you’ve been imprudent too...”
“Of course!” the chairman agreed.
Vodka and an appetizer were served. The doctor casually drank a glass, ate a radish and then took his leave. On his way back to the hospital his thoughts were misty like the grass on an autumn morning.
“Has so much been thought and meditated and said over the past week," he thought, "that it all had to come to such an awkward and vulgar end? How stupid! How stupid!"
He was ashamed that he’d involved outsiders in his personal matters, ashamed of the words he’d spoken to those people, ashamed of the vodka he’d drunken out of the habit of drinking and of living in vain, ashamed of his uncomprehending, shallow mind...
Back at the hospital, he immediately began his round of the wards. The paramedic went with him, treading softly like a cat and replying softly to his questions... The paramedic, the midwife and the nurses all pretended that nothing had happened and that all was well. And the doctor himself did his best to appear indifferent. He gave orders, he sulked, he joked with the patients, and in his mind was rumbling: "How stupid, stupid, stupid!…"
НЕПРИЯТНОСТЬ
Земский врач Григорий Иванович Овчинников, человек лет 35, худосочный и нервный, известный своим товарищам небольшими работами по медицинской статистике и горячею привязанностью к так называемым «бытовым вопросам», как-то утром делал у себя в больнице обход палат. За ним, по обыкновению, следовал его фельдшер Михаил Захарович, пожилой человек, с жирным лицом, плоскими сальными волосами и с серьгой в ухе.
Едва доктор начал обход, как ему стало казаться очень подозрительным одно пустое обстоятельство, а именно: жилетка фельдшера топорщилась в складки и упрямо задиралась вверх, несмотря на то, что фельдшер то и дело обдергивал и поправлял ее. Сорочка у фельдшера была помята и тоже топорщилась; на черном длинном сюртуке, на панталонах и даже на галстуке кое-где белел пух… Очевидно, фельдшер спал всю ночь не раздеваясь и, судя по выражению, с каким он теперь обдергивал жилетку и поправлял галстук, одежа стесняла его.
Доктор пристально поглядел на него и понял, в чем дело. Фельдшер не шатался, отвечал на вопросы складно, но угрюмо-тупое лицо, тусклые глаза, дрожь, пробегавшая по шее и рукам, беспорядок в одежде, а главное — напряженные усилия над самим собой и желание замаскировать свое состояние, свидетельствовали, что он только что встал с постели, не выспался и был пьян, пьян тяжело, со вчерашнего… Он переживал мучительное состояние «перегара», страдал и, по-видимому, был очень недоволен собой.
Доктор, не любивший фельдшера и имевший на то свои причины, почувствовал сильное желание сказать ему: «Я вижу, вы пьяны!» Ему вдруг стали противны жилетка, длиннополый сюртук, серьга в мясистом ухе, но он сдержал свое злое чувство и сказал мягко и вежливо, как всегда:
— Давали Герасиму молока?
— Давали-с… — ответил Михаил Захарыч тоже мягко.
Разговаривая с больным Герасимом, доктор взглянул на листок, где записывалась температура, и, почувствовав новый прилив ненависти, сдержал дыхание, чтобы не говорить, но не выдержал и спросил грубо и задыхаясь:
— Отчего температура не записана?
— Нет, записана-с! — сказал мягко Михаил Захарыч, но, поглядев в листок и убедившись, что температура в самом деле не записана, он растерянно пожал плечами и пробормотал: — Не знаю-с, это, должно быть, Надежда Осиповна…
— И вчерашняя вечерняя не записана! — продолжал доктор. — Только пьянствуете, чёрт вас возьми! И сейчас вы пьяны, как сапожник! Где Надежда Осиповна?
Акушерки Надежды Осиповны не было в палатах, хотя она должна была каждое утро присутствовать при перевязках. Доктор поглядел вокруг себя, и ему стало казаться, что в палате не убрано, что всё разбросано, ничего, что нужно, не сделано и что всё так же топорщится, мнется и покрыто пухом, как противная жилетка фельдшера, и ему захотелось сорвать с себя белый фартук, накричать, бросить всё, плюнуть и уйти. Но он сделал над собою усилие и продолжал обход.
За Герасимом следовал хирургический больной с воспалением клетчатки во всей правой руке. Этому нужно было сделать перевязку. Доктор сел перед ним на табурет и занялся рукой.
«Это вчера они гуляли на именинах… — думал он, медленно снимая повязку. — Погодите, я покажу вам именины! Впрочем, что я могу сделать? Ничего я не могу».
Он нащупал на вспухшей, багровой руке гнойник и сказал:
— Скальпель!
Михаил Захарыч, старавшийся показать, что он крепко стоит на ногах и годен для дела, рванулся с места и быстро подал скальпель.
— Не этот! Дайте из новых, — сказал доктор.
Фельдшер засеменил к стулу, на котором стоял ящик с перевязочным материалом, и стал торопливо рыться в нем. Он долго шептался о чем-то с сиделками, двигал ящиком по стулу, шуршал, что-то раза два уронил, а доктор сидел, ждал и чувствовал в своей спине сильное раздражение от шёпота и шороха.
— Скоро же? — спросил он. — Вы, должно быть, их внизу забыли…
Фельдшер подбежал к нему и подал два скальпеля, причем не уберегся и дыхнул в его сторону.
— Это не те! — сказал раздраженно доктор. — Я говорю вам русским языком, дайте из новых. Впрочем, ступайте и проспитесь, от вас несет, как из кабака! Вы невменяемы!
— Каких же вам еще ножей нужно? — спросил раздраженно фельдшер и медленно пожал плечами.
Ему было досадно на себя и стыдно, что на него в упор глядят больные и сиделки, и чтобы показать, что ему не стыдно, он принужденно усмехнулся и повторил:
— Каких же вам еще ножей нужно?
Доктор почувствовал на глазах слезы и дрожь в пальцах. Он сделал над собой усилие и проговорил дрожащим голосом:
— Ступайте проспитесь! Я не желаю говорить с пьяным…
— Вы можете только за дело с меня взыскивать, — продолжал фельдшер, — а ежели я, положим, выпивши, то никто не имеет права мне указывать. Ведь я служу? Что ж вам еще! Ведь служу?
Доктор вскочил и, не отдавая себе отчета в своих движениях, размахнулся и изо всей силы ударил фельдшера по лицу. Он не понимал, для чего он это делает, но почувствовал большое удовольствие оттого, что удар кулака пришелся как раз по лицу и что человек солидный, положительный, семейный, набожный и знающий себе цену, покачнулся, подпрыгнул, как мячик, и сел на табурет. Ему страстно захотелось ударить еще раз, но, увидев около ненавистного лица бледные, встревоженные лица сиделок, он перестал ощущать удовольствие, махнул рукой и выбежал из палаты.
Во дворе встретилась ему шедшая в больницу Надежда Осиповна, девица лет 27, с бледно-желтым лицом и с распущенными волосами. Ее розовое ситцевое платье было сильно стянуто в подоле и от этого шаги ее были очень мелки и часты. Она шуршала платьем, подергивала плечами в такт каждому своему шагу и покачивала головой так, как будто напевала мысленно что-то веселенькое.
«Ага, русалка!» — подумал доктор, вспомнив, что в больнице акушерку дразнят русалкой, и ему стало приятно от мысли, что он сейчас оборвет эту мелкошагающую, влюбленную в себя франтиху.
— Где это вы пропадаете? — крикнул он, поравнявшись с ней. — Отчего вы не в больнице? Температура не записана, везде беспорядок, фельдшер пьян, вы спите до двенадцати часов!.. Извольте искать себе другое место! Здесь вы больше не служите!
Придя на квартиру, доктор сорвал с себя белый фартук и полотенце, которым был подпоясан, со злобой швырнул то и другое в угол и заходил по кабинету.
— Боже, что за люди, что за люди! — проговорил он. — Это не помощники, а враги дела! Нет сил служить больше! Не могу! Я уйду!
Сердце его сильно билось, он весь дрожал и хотел плакать и, чтобы избавиться от этих ощущений, он начал успокаивать себя мыслями о том, как он прав и как хорошо сделал, что ударил фельдшера. Прежде всего гадко то, думал доктор, что фельдшер поступил в больницу не просто, а по протекции своей тетки, служащей в нянюшках у председателя земской управы (противно бывает глядеть на эту влиятельную тетушку, когда она, приезжая лечиться, держит себя в больнице, как дома, и претендует на то, чтобы ее принимали не в очередь). Дисциплинирован фельдшер плохо, знает мало и совсем не понимает того, что знает. Он нетрезв, дерзок, нечистоплотен, берет с больных взятки и тайком продает земские лекарства. Всем также известно, что он занимается практикой и лечит у молодых мещан секретные болезни, причем употребляет какие-то собственные средства. Добро бы это был просто шарлатан, каких много, но это шарлатан убежденный и втайне протестующий. Тайком от доктора он ставит приходящим больным банки и пускает им кровь, на операциях присутствует с неумытыми руками, ковыряет в ранах всегда грязным зондом — этого достаточно, чтобы понять, как глубоко и храбро презирает он докторскую медицину с ее ученостью и педантизмом.
Дождавшись, когда пальцы перестали дрожать, доктор сел за стол и написал письмо к председателю управы: «Уважаемый Лев Трофимович! Если, по получении этого письма, ваша управа не уволит фельдшера Смирновского и не предоставит мне права самому выбирать себе помощников, то я сочту себя вынужденным (не без сожаления, конечно) просить вас не считать уже меня более врачом N—ской больницы и озаботиться приисканием мне преемника. Почтение Любовь Федоровне и Юсу. Уважающий Г. Овчинников». Прочитав это письмо, доктор нашел, что оно коротко и недостаточно холодно. К тому же почтение Любовь Федоровне и Юсу (так дразнили младшего сына председателя) в деловом, официальном письме было более чем неуместно.
«Какой тут к чёрту Юс?» — подумал доктор, изорвал письмо и стал придумывать другое. — «Милостивый государь…» — думал он, садясь у открытого окна и глядя на уток с утятами, которые, покачиваясь и спотыкаясь, спешили по дороге, должно быть, к пруду; один утенок подобрал на дороге какую-то кишку, подавился и поднял тревожный писк; другой подбежал к нему, вытащил у него изо рта кишку и тоже подавился… Далеко около забора в кружевной тени, какую бросали на траву молодые липы, бродила кухарка Дарья и собирала щавель для зеленых щей… Слышались голоса… Кучер Зот с уздечкой в руке и больничный мужик Мануйло в грязном фартуке стояли около сарая, о чем-то разговаривали и смеялись.
«Это они о том, что я фельдшера ударил… — думал доктор. — Сегодня уже весь уезд будет знать об этом скандале… Итак: „Милостивый государь! Если ваша управа не уволит…“»
Доктор отлично знал, что управа ни в каком случае не променяет его на фельдшера и скорее согласится не иметь ни одного фельдшера во всем уезде, чем лишиться такого превосходного человека, как доктор Овчинников. Наверное, тотчас же по получении письма Лев Трофимович прикатит к нему на тройке и начнет: «Да что вы это, батенька, вздумали? Голубушка, что же это такое, Христос с вами? Зачем? С какой стати? Где он? Подать его сюда, каналью! Прогнать! Обязательно прогнать!
Чтоб завтра же его, подлеца, здесь не было!» Потом он пообедает с доктором, а после обеда ляжет вот на этом малиновом диване животом вверх, закроет лицо газетой и захрапит; выспавшись, напьется чаю и увезет к себе доктора ночевать. И вся история кончится тем, что и фельдшер останется в больнице, и доктор не подаст в отставку.
Доктору же в глубине души хотелось не такой развязки. Ему хотелось, чтобы фельдшерская тетушка восторжествовала и чтобы управа, невзирая на его восьмилетнюю добросовестную службу, без разговоров и даже с удовольствием приняла бы его отставку. Он мечтал о том, как он будет уезжать из больницы, к которой привык, как напишет письмо в газету «Врач», как товарищи поднесут ему сочувственный адрес…
На дороге показалась русалка. Мелко шагая и шурша платьем, она подошла к окну и спросила:
— Григорий Иваныч, сами будете принимать больных или без вас прикажете?
А глаза ее говорили: «Ты погорячился, но теперь успокоился и тебе стыдно, но я великодушна и не замечаю этого».
— Хорошо, я сейчас, — сказал доктор.
Он опять надел фартук, подпоясался полотенцем и пошел в больницу.
«Нехорошо, что я убежал, когда ударил его… — думал он дорогой. — Вышло, как будто я сконфузился или испугался… Гимназиста разыграл… Очень нехорошо!»
Ему казалось, что когда он войдет в палату, то больным будет неловко глядеть на него и ему самому станет совестно, но когда он вошел, больные покойно лежали на кроватях и едва обратили на него внимание. Лицо чахоточного Герасима выражало совершенное равнодушие и как бы говорило: «Он тебе не потрафил, ты его маненько поучил… Без этого, батюшка, нельзя».
Доктор вскрыл на багровой руке два гнойника и наложил повязку, потом отправился в женскую половину, где сделал одной бабе операцию в глазу, и всё время за ним ходила русалка и помогала ему с таким видом, как будто ничего не случилось и всё обстояло благополучно. После обхода палат началась приемка приходящих больных. В маленькой приемной доктора окно было открыто настежь. Стоило только сесть на подоконник и немножко нагнуться, чтобы увидеть на аршин от себя молодую траву. Вчера вечером был сильный ливень с грозой, а потому трава немного помята и лоснится. Тропинка, которая бежит недалеко от окна и ведет к оврагу, кажется умытой, и разбросанная по сторонам ее битая аптекарская посуда, тоже умытая, играет на солнце и испускает ослепительно яркие лучи. А дальше за тропинкой жмутся друг к другу молодые елки, одетые в пышные зеленые платья, за ними стоят березы с белыми, как бумага, стволами, а сквозь слегка трепещущую от ветра зелень берез видно голубое бездонное небо. Когда выглянешь в окно, то скворцы, прыгающие по тропинке, поворачивают в сторону окна свои глупые носы и решают: испугаться или нет? И, решив испугаться, они один за другим с веселым криком, точно потешаясь над доктором, не умеющим летать, несутся к верхушкам берез…
Сквозь тяжелый запах иодоформа чувствуется свежесть и аромат весеннего дня… Хорошо дышать!
— Анна Спиридонова! — вызвал доктор.
В приемную вошла молодая баба в красном платье и помолилась на образ.
— Что болит? — спросил доктор.
Баба недоверчиво покосилась на дверь, в которую вошла, и на дверцу, ведущую в аптеку, подошла поближе к доктору и шепнула:
— Детей нету!
— Кто еще не записывался? — крикнула в аптеке русалка. — Подходите записываться!
«Он уже тем скотина, — думал доктор, исследуя бабу, — что заставил меня драться первый раз в жизни. Я отродясь не дрался».
Анна Спиридонова ушла. После нее пришел старик с дурной болезнью, потом баба с тремя ребятишками в чесотке, и работа закипела. Фельдшер не показывался. За дверцей в аптеке, шурша платьем и звеня посудой, весело щебетала русалка; то и дело она входила в приемную, чтобы помочь на операции или взять рецепты, и всё с таким видом, как будто всё было благополучно.
«Она рада, что я ударил фельдшера, — думал доктор, прислушиваясь к голосу акушерки. — Ведь она жила с фельдшером, как кошка с собакой, и для нее праздник, если его уволят. И сиделки, кажется, рады… Как это противно!»
В самый разгар приемки ему стало казаться, что и акушерка, и сиделки, и даже больные нарочно стараются придать себе равнодушное и веселое выражение. Они как будто понимали, что ему стыдно и больно, но из деликатности делали вид, что не понимают. И он, желая показать им, что ему вовсе не стыдно, кричал сердито:
— Эй, вы, там! Затворяйте дверь, а то сквозит!
А ему уж было стыдно и тяжело. Принявши сорок пять больных, он не спеша вышел из больницы. Акушерка, уже успевшая побывать у себя на квартире и надеть на плечи ярко-пунцовый платок, с папироской в зубах и цветком в распущенных волосах, спешила куда-то со двора, вероятно, на практику или в гости. На пороге больницы сидели больные и молча грелись на солнышке. Скворцы по-прежнему шумели и гонялись за жуками. Доктор глядел по сторонам и думал, что среди всех этих ровных, безмятежных жизней, как два испорченных клавиша в фортепиано, резко выделялись и никуда не годились только две жизни: фельдшера и его. Фельдшер теперь, наверное, лег, чтобы проспаться, но никак не может уснуть от мысли, что он виноват, оскорблен и потерял место. Положение его мучительно. Доктор же, ранее никогда никого не бивший, чувствовал себя так, как будто навсегда потерял невинность. Он уже не обвинял фельдшера и не оправдывал себя, а только недоумевал: как это могло случиться, что он, порядочный человек, никогда не бивший даже собак, мог ударить? Придя к себе на квартиру, он лег в кабинете на диван, лицом к спинке, и стал думать таким образом:
«Он человек нехороший, вредный для дела; за три года, пока он служит, у меня накипело в душе, но тем не менее мой поступок ничем не может быть оправдан. Я воспользовался правом сильного. Он мой подчиненный, виноват и к тому же пьян, а я его начальник, прав и трезв… Значит, я сильнее. Во-вторых, я ударил его при людях, которые считают меня авторитетом, и таким образом я подал им отвратительный пример…»
Доктора позвали обедать… Он съел несколько ложек щей и, вставши из-за стола, опять лег на диван.
«Что же теперь делать? — продолжал он думать. — Надо возможно скорее дать ему удовлетворение… Но каким образом? Дуэли он, как практический человек, считает глупостью или не понимает их. Если в той самой палате, при сиделках и больных, попросить у него извинения, то это извинение удовлетворит только меня, а не его; он, человек дурной, поймет мое извинение как трусость и боязнь, что он пожалуется на меня начальству. К тому же, это мое извинение вконец расшатает больничную дисциплину. Предложить ему денег? Нет, это безнравственно и похоже на подкуп. Если теперь, положим, обратиться за разрешением вопроса к нашему прямому начальству, то есть к управе… Она могла бы объявить мне выговор или уволить меня… Но этого она не сделает. Да и не совсем удобно вмешивать в интимные дела больницы управу, которая кстати же не имеет на это никакого права…»
Часа через три после обеда доктор шел к пруду купаться и думал:
«А не поступить ли мне так, как поступают все при подобных обстоятельствах? То есть, пусть он подаст на меня в суд. Я безусловно виноват, оправдываться не стану, и мировой присудит меня к аресту. Таким образом оскорбленный будет удовлетворен, и те, которые считают меня авторитетом, увидят, что я был неправ».
Эта идея улыбнулась ему. Он обрадовался и стал думать, что вопрос решен благополучно и что более справедливого решения не может быть.
«Что ж, превосходно! — думал он, полезая в воду и глядя, как от него убегали стаи мелких, золотистых карасиков. — Пусть подает… Это для него тем более удобно, что наши служебные отношения уже порваны и одному из нас после этого скандала всё равно уж нельзя оставаться в больнице…»
Вечером доктор приказал заложить шарабан, чтобы ехать к воинскому начальнику играть в винт. Когда он, в шляпе и в пальто, совсем уже готовый в путь, стоял у себя посреди кабинета и надевал перчатки, наружная дверь со скрипом отворилась и кто-то бесшумно вошел в переднюю.
— Кто там? — спросил доктор.
— Это я-с… — глухо ответил вошедший.
У доктора вдруг застучало сердце и весь он похолодел от стыда и какого-то непонятного страха. Фельдшер Михаил Захарыч (это был он) тихо кашлянул и несмело вошел в кабинет. Помолчав немного, он сказал глухим, виноватым голосом:
— Простите меня, Григорий Иваныч!
Доктор растерялся и не знал, что сказать. Он понял, что фельдшер пришел к нему унижаться и просить прощения не из христианского смирения и не ради того, чтобы своим смирением уничтожить оскорбителя, а просто из расчета: «сделаю над собой усилие, попрошу прощения, и, авось, меня не прогонят и не лишат куска хлеба…» Что может быть оскорбительней для человеческого достоинства?
— Простите… — повторил фельдшер.
— Послушайте… — заговорил доктор, стараясь не глядеть на него и всё еще не зная, что сказать. — Послушайте… Я вас оскорбил и… и должен понести наказание, то есть удовлетворить вас… Дуэлей вы не признаете… Впрочем, я сам не признаю дуэлей. Я вас оскорбил и вы… вы можете подать на меня жалобу мировому судье, и я понесу наказание… А оставаться нам тут вдвоем нельзя… Кто-нибудь из нас, я или вы, должен выйти! («Боже мой! Я не то ему говорю! — ужаснулся доктор. — Как глупо, как глупо!») Одним словом, подавайте прошение! А служить вместе мы уже не можем!.. Я или вы… Завтра же подавайте!
Фельдшер поглядел исподлобья на доктора и в его темных, мутных глазах вспыхнуло самое откровенное презрение. Он всегда считал доктора непрактическим, капризным мальчишкой, а теперь презирал его за дрожь, за непонятную суету в словах…
— И подам, — сказал он угрюмо и злобно.
— Да, и подавайте!
— А что ж вы думаете? Не подам? И подам… Вы не имеете права драться. Да и стыдились бы! Дерутся только пьяные мужики, а вы образованный…
В груди доктора неожиданно встрепенулась вся его ненависть, и он закричал не своим голосом:
— Убирайтесь вон!
Фельдшер нехотя тронулся с места (ему как будто хотелось еще что-то сказать), пошел в переднюю и остановился там в раздумье. И, что-то надумав, он решительно вышел…
— Как глупо, как глупо! — бормотал доктор по уходе его. — Как всё это глупо и пошло!
Он чувствовал, что вел себя сейчас с фельдшером, как мальчишка, и уж понимал, что все его мысли насчет суда не умны, не решают вопроса, а только осложняют его.
«Как глупо! — думал он, сидя в шарабане и потом играя у воинского начальника в винт. — Неужели я так мало образован и так мало знаю жизнь, что не в состоянии решить этого простого вопроса? Ну, что делать?»
На другой день утром доктор видел, как жена фельдшера садилась в повозку, чтобы куда-то ехать, и подумал: «Это она к тетушке. Пусть!»
Больница обходилась без фельдшера. Нужно было написать заявление в управу, но доктор всё еще никак не мог придумать формы письма. Теперь смысл письма должен был быть таков: «Прошу уволить фельдшера, хотя виноват не он, а я». Изложить же эту мысль так, чтобы вышло не глупо и не стыдно — для порядочного человека почти невозможно.
Дня через два или три доктору донесли, что фельдшер был с жалобой у Льва Трофимовича. Председатель не дал ему сказать ни одного слова, затопал ногами и проводил его криком: «Знаю я тебя! Вон! Не желаю слушать!» От Льва Трофимовича фельдшер поехал в управу и подал там ябеду, в которой, не упоминая о пощечине и ничего не прося для себя, доносил управе, что доктор несколько раз в его присутствии неодобрительно отзывался об управе и председателе, что лечит доктор не так, как нужно, ездит на участки неисправно и проч. Узнав об этом, доктор засмеялся и подумал: «Этакий дурак!» и ему стало стыдно и жаль, что фельдшер делает глупости; чем больше глупостей делает человек в свою защиту, тем он, значит, беззащитнее и слабее.
Ровно через неделю после описанного утра доктор получил повестку от мирового судьи.
«Это уж совсем глупо… — думал он, расписываясь в получении. — Глупее и придумать ничего нельзя».
И когда он в пасмурное, тихое утро ехал к мировому, ему уж было не стыдно, а досадно и противно. Он злился и на себя, и на фельдшера, и на обстоятельства…
— Возьму и скажу на суде: убирайтесь вы все к чёрту! — злился он. — Вы все ослы и ничего вы не понимаете!
Подъехав к камере мирового, он увидел на пороге трех своих сиделок, вызванных в качестве свидетельниц, и русалку. При виде сиделок и жизнерадостной акушерки, которая от нетерпения переминалась с ноги на ногу и даже вспыхнула от удовольствия, когда увидела главного героя предстоящего процесса, сердитому доктору захотелось налететь на них ястребом и ошеломить: «Кто вам позволил уходить из больницы? Извольте сию минуту убираться домой!», но он сдержал себя и, стараясь казаться покойным, пробрался сквозь толпу мужиков в камеру. Камера была пуста и цепь мирового висела на спинке кресла. Доктор пошел в комнатку письмоводителя. Тут он увидел молодого человека с тощим лицом и в коломенковом пиджаке с оттопыренными карманами — это был письмоводитель, и фельдшера, который сидел за столом и от нечего делать перелистывал справки о судимости. При входе доктора письмоводитель поднялся; фельдшер сконфузился и тоже поднялся.
— Александр Архипович еще не приходил? — спросил доктор, конфузясь.
— Нет еще. Они дома… — ответил письмоводитель.
Камера помещалась в усадьбе мирового судьи, в одном из флигелей, а сам судья жил в большом доме. Доктор вышел из камеры и не спеша направился к дому. Александра Архиповича застал он в столовой за самоваром. Мировой без сюртука и без жилетки, с расстегнутой на груди рубахой стоял около стола и, держа в обеих руках чайник, наливал себе в стакан темного, как кофе, чаю; увидев гостя, он быстро придвинул к себе другой стакан, налил его и, не здороваясь, спросил:
— Вам с сахаром или без сахару?
Когда-то, очень давно, мировой служил в кавалерии; теперь уж он за свою долголетнюю службу по выборам состоял в чине действительного статского, но всё еще не бросал ни своего военного мундира, ни военных привычек. У него были длинные, полицмейстерские усы, брюки с кантами, и все его поступки и слова были проникнуты военной грацией. Говорил он, слегка откинув назад голову и уснащая речь сочным, генеральским «мнэээ…», поводил плечами и играл глазами; здороваясь или давая закурить, шаркал подошвами и при ходьбе так осторожно и нежно звякал шпорами, как будто каждый звук шпор причинял ему невыносимую боль. Усадив доктора за чай, он погладил себя по широкой груди и по животу, глубоко вздохнул и сказал:
— Н-да-с… Может быть, желаете мнээ… водки выпить и закусить? Мнэ-э?
— Нет, спасибо, я сыт.
Оба чувствовали, что им не миновать разговора о больничном скандале, и обоим было неловко. Доктор молчал. Мировой грациозным манием руки поймал комара, укусившего его в грудь, внимательно оглядел его со всех сторон и выпустил, потом глубоко вздохнул, поднял глаза на доктора и спросил с расстановкой:
— Послушайте, отчего вы его не прогоните?
Доктор уловил в его голосе сочувственную нотку; ему вдруг стало жаль себя, и он почувствовал утомление и разбитость от передряг, пережитых в последнюю неделю. С таким выражением, как будто терпение его наконец лопнуло, он поднялся из-за стола и, раздраженно морщась, пожимая плечами, сказал:
— Прогнать! Как вы все рассуждаете, ей-богу… Удивительно, как вы все рассуждаете! Да разве я могу его прогнать? Вы тут сидите и думаете, что в больнице я у себя хозяин и делаю всё, что хочу! Удивительно, как вы все рассуждаете! Разве я могу прогнать фельдшера, если его тетка служит в няньках у Льва Трофимыча и если Льву Трофимычу нужны такие шептуны и лакеи, как этот Захарыч? Что я могу сделать, если земство ставит нас, врачей, ни в грош, если оно на каждом шагу бросает нам под ноги поленья? Чёрт их подери, я не желаю служить, вот и всё! Не желаю!
— Ну, ну, ну… Вы, душа моя, придаете уж слишком много значения, так сказать…
— Предводитель изо всех сил старается доказать, что все мы нигилисты, шпионит и третирует нас, как своих писарей. Какое он имеет право приезжать в мое отсутствие в больницу и допрашивать там сиделок и больных? Разве это не оскорбительно? А этот ваш юродивый Семен Алексеич, который сам пашет и не верует в медицину, потому что здоров и сыт, как бык, громогласно и в глаза обзывает нас дармоедами и попрекает куском хлеба! Да чёрт его возьми! Я работаю от утра до ночи, отдыха не знаю, я нужнее здесь, чем все эти вместе взятые юродивые, святоши, реформаторы и прочие клоуны! Я потерял на работе здоровье, а меня вместо благодарности попрекают куском хлеба! Покорнейше вас благодарю! И каждый считает себя вправе совать свой нос не в свое дело, учить, контролировать! Этот ваш член управы Камчатский в земском собрании делал врачам выговор за то, что у нас выходит много иодистого калия, и рекомендовал нам быть осторожными при употреблении кокаина! Что он понимает, я вас спрашиваю? Какое ему дело? Отчего он не учит вас судить?
— Но… но ведь он хам, душа моя, холуй… На него нельзя обращать внимание…
— Хам, холуй, однако же вы выбрали этого свистуна в члены и позволяете ему всюду совать свой нос! Вы вот улыбаетесь! По-вашему, всё это мелочи, пустяки, но поймите же, что этих мелочей так много, что из них сложилась вся жизнь, как из песчинок гора! Я больше не могу! Сил нет, Александр Архипыч! Еще немного и, уверяю вас, я не только бить по мордасам, но и стрелять в людей буду! Поймите, что у меня не проволоки, а нервы. Я такой же человек, как и вы…
Глаза доктора налились слезами и голос дрогнул; он отвернулся и стал глядеть в окно. Наступило молчание.
— Н-да-с, почтеннейший… — пробормотал мировой в раздумье. — С другой же стороны, если рассудить хладнокровно, то… (мировой поймал комара и, сильно прищурив глаза, оглядел его со всех сторон, придавил и бросил в полоскательную чашку)… то, видите ли, и прогонять его нет резона. Прогоните, а на его место сядет другой такой же, да еще, пожалуй, хуже. Перемените вы сто человек, а хорошего не найдете… Все мерзавцы (мировой погладил себя под мышками и медленно закурил папиросу). С этим злом надо мириться. Я должен вам сказать, что-о в настоящее время честных и трезвых работников, на которых вы можете положиться, можно найти только среди интеллигенции и мужиков, то есть среди двух этих крайностей — и только. Вы, так сказать, можете найти честнейшего врача, превосходнейшего педагога, честнейшего пахаря или кузнеца, но средние люди, то есть, если так выразиться, люди, ушедшие от народа и не дошедшие до интеллигенции, составляют элемент ненадежный. Весьма трудно поэтому найти честного и трезвого фельдшера, писаря, приказчика и прочее. Чрезвычайно трудно! Я служу-с в юстиции со времен царя Гороха и во всё время своей службы не имел еще ни разу честного и трезвого писаря, хотя и прогнал их на своем веку видимо-невидимо. Народ без всякой моральной дисциплины, не говоря уж о-о-о-о принципах, так сказать…
«Зачем он это говорит? — подумал доктор. — Не то мы с ним говорим, что нужно».
— Вот не дальше, как в прошлую пятницу, — продолжал мировой, — мой Дюжинский учинил такую, можете себе представить, штуку. Созвал он к себе вечером каких-то пьяниц, чёрт их знает, кто они такие, и всю ночь пропьянствовал с ними в камере. Как вам это понравится? Я ничего не имею против питья. Чёрт с тобой, пей, но зачем пускать в камеру неизвестных людей? Ведь, судите сами, выкрасть из дел какой-нибудь документ, вексель и прочее — минутное дело! И что ж вы думаете? После той оргии я должен был дня два проверять все дела, не пропало ли что… Ну, что ж вы поделаете со стервецом? Прогнать? Хорошо-с… А чем вы поручитесь, что другой не будет хуже?
— Да и как его прогонишь? — сказал доктор. — Прогнать человека легко только на словах… Как я прогоню и лишу его куска хлеба, если знаю, что он семейный, голодный? Куда он денется со своей семьей?
«Чёрт знает что, не то я говорю!» — подумал он, и ему показалось странным, что он никак не может укрепить свое сознание на какой-нибудь одной, определенной мысли или на каком-нибудь одном чувстве. — «Это оттого, что я неглубок и не умею мыслить», — подумал он.
— Средний человек, как вы назвали, ненадежен, — продолжал он. — Мы его гоним, браним, бьем по физиономии, но ведь надо же войти и в его положение. Он ни мужик, ни барин, ни рыба, ни мясо; прошлое у него горькое, в настоящем у него только 25 рублей в месяц, голодная семья и подчиненность, в будущем те же 25 рублей и зависимое положение, прослужи он хоть сто лет. У него ни образования, ни собственности; читать и ходить в церковь ему некогда, нас он не слышит, потому что мы не подпускаем его к себе близко. Так и живет изо дня в день до самой смерти без надежд на лучшее, обедая впроголодь, боясь, что вот-вот его прогонят из казенной квартиры, не зная, куда приткнуть своих детей. Ну, как тут, скажите, не пьянствовать, не красть? Где тут взяться принципам!
«Мы, кажется, уж социальные вопросы решаем, — подумал он. — И как нескладно, господи! Да и к чему всё это?»
Послышались звонки. Кто-то въехал во двор и подкатил сначала к камере, потом к крыльцу большого дома.
— Сам приехал, — сказал мировой, поглядев в окно. — Ну, будет вам на орехи!
— А вы, пожалуйста, отпустите меня поскорее… — попросил доктор. — Если можно, то рассмотрите мое дело не в очередь. Ей-богу, некогда.
— Хорошо, хорошо… Только я еще не знаю, батенька, подсудно ли мне это дело. Отношения ведь у вас с фельдшером, так сказать, служебные, и к тому же вы смазали его при исполнении служебных обязанностей. Впрочем, не знаю хорошенько. Спросим сейчас у Льва Трофимовича.
Послышались торопливые шаги и тяжелое дыхание, и в дверях показался Лев Трофимович, председатель, седой и лысый старик с длинной бородой и красными веками.
— Мое почтение… — сказал он, задыхаясь. — Уф, батюшки! Вели-ка, судья, подать мне квасу! Смерть моя…
Он опустился в кресло, но тотчас же быстро вскочил, подбежал к доктору и, сердито тараща на него глаза, заговорил визгливым тенором:
— Очень и чрезвычайно вам благодарен, Григорий Иваныч! Одолжили, благодарю вас! Во веки веков аминь не забуду! Так приятели не делают! Как угодно, а это даже недобросовестно с вашей стороны! Отчего вы меня не известили? Что я вам? Кто? Враг или посторонний человек? Враг я вам? Разве я вам когда-нибудь в чем отказывал? А?
Тараща глаза и шевеля пальцами, председатель напился квасу, быстро вытер губы и продолжал:
— Очень, очень вам благодарен! Отчего вы меня не известили? Если бы вы имели ко мне чувства, приехали бы ко мне и по-дружески: «Голубушка, Лев Трофимыч, так и так, мол… Такого сорта история и прочее…» Я бы вам в один миг всё устроил и не понадобилось бы этого скандала… Тот дурак, словно белены объелся, шляется по уезду, кляузничает да сплетничает с бабами, а вы, срам сказать, извините за выражение, затеяли чёрт знает что, заставили того дурака подать в суд! Срам, чистый срам! Все меня спрашивают, в чем дело, как и что, а я, председатель, и ничего не знаю, что у вас там делается. Вам до меня и надобности нет! Очень, очень вам благодарен, Григорий Иваныч!
Председатель поклонился так низко, что даже побагровел весь, потом подошел к окну и крикнул:
— Жигалов, позови сюда Михаила Захарыча! Скажи, чтоб сию минуту сюда шел! Нехорошо-с! — сказал он, отходя от окна. — Даже жена моя обиделась, а уж на что, кажется, благоволит к вам. Уж очень вы, господа, умствуете! Всё норовите, как бы это по-умному, да по принципам, да со всякими выкрутасами, а выходит у вас только одно: тень наводите…
— Вы норовите всё не по-умному, а у вас-то что выходит? — спросил доктор.
— Что у нас выходит? А то выходит, что если бы я сейчас сюда не приехал, то вы бы и себя осрамили, и нас… Счастье ваше, что я приехал!
Вошел фельдшер и остановился у порога. Председатель стал к нему боком, засунул руки в карманы, откашлялся и сказал:
— Проси сейчас у доктора прощения!
Доктор покраснел и выбежал в другую комнату.
— Вот видишь, доктор не хочет принимать твоих извинений! — продолжал председатель. — Он желает, чтоб ты не на словах, а на деле выказал свое раскаяние. Даешь слово, что с сегодняшнего дня будешь слушаться и вести трезвую жизнь?
— Даю… — угрюмо пробасил фельдшер.
— Смотри же! Бо-оже тебя сохрани! У меня в один миг потеряешь место! Если что случится, не проси милости… Ну, ступай домой…
Для фельдшера, который уже помирился со своим несчастьем, такой поворот дела был неожиданным сюрпризом. Он даже побледнел от радости. Что-то он хотел сказать и протянул вперед руку, но ничего не сказал, а тупо улыбнулся и вышел.
— Вот и всё! — сказал председатель. — И суда никакого не нужно.
Он облегченно вздохнул и с таким видом, как будто только что совершил очень трудное и важное дело, оглядел самовар и стаканы, потер руки и сказал:
— Блажени миротворцы… Налей-ка мне, Саша, стаканчик. А впрочем, вели сначала дать чего-нибудь закусить… Ну, и водочки…
— Господа, это невозможно! — сказал доктор, входя в столовую, всё еще красный и ломая руки. — Это… это комедия! Это гадко! Я не могу. Лучше двадцать раз судиться, чем решать вопросы так водевильно. Нет, я не могу!
— Что же вам нужно? — огрызнулся на него председатель. — Прогнать? Извольте, я прогоню…
— Нет, не прогнать… Я не знаю, что мне нужно, но так, господа, относиться к жизни… ах, боже мой! Это мучительно!
Доктор нервно засуетился и стал искать своей шляпы и, не найдя ее, в изнеможении опустился в кресло.
— Гадко! — повторил он.
— Душа моя, — зашептал мировой, — отчасти я вас не понимаю, так сказать… Ведь вы виноваты в этом инциденте! Хлобыстать по физиономии в конце девятнадцатого века — это, некоторым образом, как хотите, не того… Он мерзавец, но-о-о, согласитесь, и вы поступили неосторожно…
— Конечно! — согласился председатель.
Подали водку и закуску. На прощанье доктор машинально выпил рюмку и закусил редиской. Когда он возвращался к себе в больницу, мысли его заволакивались туманом, как трава в осеннее утро.
«Неужели, — думал он, — в последнюю неделю было так много выстрадано, передумано и сказано только для того, чтобы всё кончилось так нелепо и пошло! Как глупо! Как глупо!»
Ему было стыдно, что в свой личный вопрос он впутал посторонних людей, стыдно за слова, которые он говорил этим людям, за водку, которую он выпил по привычке пить и жить зря, стыдно за свой не понимающий, не глубокий ум… Вернувшись в больницу, он тотчас же принялся за обход палат. Фельдшер ходил около него, ступая мягко, как кот, и мягко отвечая на вопросы… И фельдшер, и русалка, и сиделки делали вид, что ничего не случилось и что всё было благополучно. И сам доктор изо всех сил старался казаться равнодушным. Он приказывал, сердился, шутил с больными, а в мозгу его копошилось:
«Глупо, глупо, глупо…»
An Unpleasantness (e-book)
[1] Chekhov had graduated from the medical faculty of the University of Moscow in June 1884, four years before writing this story.
[2] by Ray, with the help of DeepL and Google Translate.
 Prospero’s Isle
Prospero’s Isle