Home > Stories > "Notes From the Underground" by Fyodor Dostoyevsky (1864)
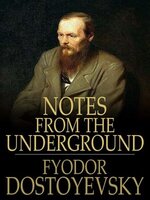 "Notes From the Underground" by Fyodor Dostoyevsky (1864)
"Notes From the Underground" by Fyodor Dostoyevsky (1864)
Monday 4 December 2023, by
The narrator is a social misfit of forty who ruminates at length on his defects and his endless humiliating experiences and conflicts, for he is a (Russian) intellectual with great sensitivity and a particularly acute sense of the failings of the modern world and of everyone in it, especially himself.
The tone is set from the first sentence that says it all (“I am a sick man… I am a spiteful man.”) and rapidly scales the height of self-denigration as he describes his miserable life and living conditions (“I got to the point of feeling a sort of secret abnormal, despicable enjoyment in returning home to my corner on some disgusting Petersburg night, acutely conscious that that day I had committed a loathsome action again, that what was done could never be undone, and secretly, inwardly gnawing, gnawing at myself for it, tearing and consuming myself till at last the bitterness turned into a sort of shameful accursed sweetness, and at last into positive real enjoyment!”) and his awareness of himself as if he were an insect (“I tell you solemnly, that I have many times tried to become an insect. But I was not equal even to that…”) or a mouse timidly living underground to escape the terrors of the world above (“he genuinely thinks of himself as a mouse and not a man...Of course the only thing left for it is to dismiss all that with a wave of its paw, and, with a smile of assumed contempt in which it does not even itself believe, creep ignominiously into its mouse-hole. There in its nasty, stinking, underground home our insulted, crushed and ridiculed mouse promptly becomes absorbed in cold, malignant and, above all, everlasting spite.”).
Once the situation has been completely and convincingly conveyed to the reader in a long outburst of fascinating, brilliant and constantly sidesplittingly-funny prose, the undergrounder proceeds to relate the two major events of the book – the goodbye party for a former school comrade (whom he hates and despises of course) that he has insisted on participating in to the astonishment and dismay of all the other participants and that turns out even worse and more humiliatingly than he had with his inherent pessimism foreseen himself; and then his very unexpected, moving and quite unforgettable encounter with a certain Liza.
An in-depth exploration of the psyche of a loner and a loser and an outcast and a very bitter, unhappy man, written in the flowing, powerful, and sparkling prose of one of the greatest masters of the Russian language: at the same time a masterful evocation of the dark side of the human experience and a masterpiece – no doubt THE masterpiece – of black humour.
Translated by Constance Garnett for a London edition in 1918, with some of our own footnotes [1].
(44,300 words in the English translation) [2]
An e-book, with the original Russian texts in an annex, is available for downloading below.
The original Russian texts can also be seen here.
NOTES FROM THE UNDERGROUND
The author of the diary and the diary itself are, of course, imaginary. Nevertheless it is clear that such persons as the writer of these notes not only may, but positively must, exist in our society, when we consider the circumstances in the midst of which our society is formed. I have tried to expose to the view of the public more distinctly than is commonly done, one of the characters of the recent past. He is one of the representatives of a generation still living. In this fragment, entitled "Underground," this person introduces himself and his views, and, as it were, tries to explain the causes owing to which he has made his appearance and was bound to make his appearance in our midst. In the second fragment there are added the actual notes of this person concerning certain events in his life.—Author’s Note.
PART I
UNDERGROUND
I
I am a sick man.... I am a spiteful man. I am an unattractive man. I believe my liver is diseased. However, I know nothing at all about my disease, and do not know for certain what ails me. I don’t consult a doctor for it, and never have, though I have a respect for medicine and doctors. Besides, I am extremely superstitious, sufficiently so to respect medicine, anyway (I am well-educated enough not to be superstitious, but I am superstitious). No, I refuse to consult a doctor from spite. That you probably will not understand. Well, I understand it, though. Of course, I can’t explain who it is precisely that I am mortifying in this case by my spite: I am perfectly well aware that I cannot "pay out" the doctors by not consulting them; I know better than any one that by all this I am only injuring myself and no one else. But still, if I don’t consult a doctor it is from spite. My liver is bad, well—let it get worse!
I have been going on like that for a long time—twenty years. Now I am forty. I used to be in the government service, but am no longer. I was a spiteful official. I was rude and took pleasure in being so. I did not take bribes, you see, so I was bound to find a recompense in that, at least. (A poor jest, but I will not scratch it out. I wrote it thinking it would sound very witty; but now that I have seen myself that I only wanted to show off in a despicable way, I will not scratch it out on purpose!)
When petitioners used to come for information to the table at which I sat, I used to grind my teeth at them, and felt intense enjoyment when I succeeded in making anybody unhappy. I almost always did succeed. For the most part they were all timid people—of course, they were petitioners. But of the uppish ones there was one officer in particular I could not endure. He simply would not be humble, and clanked his sword in a disgusting way. I carried on a feud with him for eighteen months over that sword. At last I got the better of him. He left off clanking it. That happened in my youth, though.
But do you know, gentlemen, what was the chief point about my spite? Why, the whole point, the real sting of it lay in the fact that continually, even in the moment of the acutest spleen, I was inwardly conscious with shame that I was not only not a spiteful but not even an embittered man, that I was simply scaring sparrows at random and amusing myself by it. I might foam at the mouth, but bring me a doll to play with, give me a cup of tea with sugar in it, and maybe I should be appeased. I might even be genuinely touched, though probably I should grind my teeth at myself afterwards and lie awake at night with shame for months after. That was my way.
I was lying when I said just now that I was a spiteful official. I was lying from spite. I was simply amusing myself with the petitioners and with the officer, and in reality I never could become spiteful. I was conscious every moment in myself of many, very many elements absolutely opposite to that. I felt them positively swarming in me, these opposite elements. I knew that they had been swarming in me all my life and craving some outlet from me, but I would not let them, would not let them, purposely would not let them come out. They tormented me till I was ashamed: they drove me to convulsions and—sickened me, at last, how they sickened me! Now, are not you fancying, gentlemen, that I am expressing remorse for something now, that I am asking your forgiveness for something? I am sure you are fancying that.... However, I assure you I do not care if you are....
It was not only that I could not become spiteful, I did not know how to become anything: neither spiteful nor kind, neither a rascal nor an honest man, neither a hero nor an insect. Now, I am living out my life in my corner, taunting myself with the spiteful and useless consolation that an intelligent man cannot become anything seriously, and it is only the fool who becomes anything. Yes, a man in the nineteenth century must and morally ought to be pre-eminently a characterless creature; a man of character, an active man is pre-eminently a limited creature. That is my conviction of forty years. I am forty years old now, and you know forty years is a whole life-time; you know it is extreme old age. To live longer than forty years is bad manners, is vulgar, immoral. Who does live beyond forty? Answer that, sincerely and honestly. I will tell you who do: fools and worthless fellows. I tell all old men that to their face, all these venerable old men, all these silver-haired and reverend seniors! I tell the whole world that to its face! I have a right to say so, for I shall go on living to sixty myself. To seventy! To eighty!... Stay, let me take breath....
You imagine no doubt, gentlemen, that I want to amuse you. You are mistaken in that, too. I am by no means such a mirthful person as you imagine, or as you may imagine; however, irritated by all this babble (and I feel that you are irritated) you think fit to ask me who am I—then my answer is, I am a collegiate assessor. I was in the service that I might have something to eat (and solely for that reason), and when last year a distant relation left me six thousand roubles in his will I immediately retired from the service and settled down in my corner. I used to live in this corner before, but now I have settled down in it. My room is a wretched, horrid one in the outskirts of the town. My servant is an old country-woman, ill-natured from stupidity, and, moreover, there is always a nasty smell about her. I am told that the Petersburg climate is bad for me, and that with my small means it is very expensive to live in Petersburg. I know all that better than all these sage and experienced advisers and wigglers [3].... But I am remaining in Petersburg; I am not going away from Petersburg! I am not going away because ... ech! Why, it is absolutely no matter whether I am going away or not going away.
But what can a decent man speak of with most pleasure?
Answer: Of himself.
Well, so I will talk about myself.
II
I want now to tell you, gentlemen, whether you care to hear it or not, why I could not even become an insect. I tell you solemnly, that I have many times tried to become an insect. But I was not equal even to that. I swear, gentlemen, that to be too conscious is an illness—a real thorough-going illness. For man’s everyday needs, it would have been quite enough to have the ordinary human consciousness, that is, half or a quarter of the amount which falls to the lot of a cultivated man of our unhappy nineteenth century, especially one who has the fatal ill-luck to inhabit Petersburg, the most theoretical and intentional town on the whole terrestrial globe. (There are intentional and unintentional towns.) It would have been quite enough, for instance, to have the consciousness by which all so-called direct persons and men of action live. I bet you think I am writing all this from affectation, to be witty at the expense of men of action; and what is more, that from ill-bred affectation, I am clanking a sword like my officer. But, gentlemen, whoever can pride himself on his diseases and even swagger over them?
Though, after all, every one does do that; people do pride themselves on their diseases, and I do, may be, more than any one. We will not dispute it; my contention was absurd. But yet I am firmly persuaded that a great deal of consciousness, every sort of consciousness, in fact, is a disease. I stick to that. Let us leave that, too, for a minute. Tell me this: why does it happen that at the very, yes, at the very moments when I am most capable of feeling every refinement of all that is "good and beautiful," as they used to say at one time, it would, as though of design, happen to me not only to feel but to do such ugly things, such that.... Well, in short, actions that all, perhaps, commit; but which, as though purposely, occurred to me at the very time when I was most conscious that they ought not to be committed. The more conscious I was of goodness and of all that was "good and beautiful," the more deeply I sank into my mire and the more ready I was to sink in it altogether. But the chief point was that all this was, as it were, not accidental in me, but as though it were bound to be so. It was as though it were my most normal condition, and not in the least disease or depravity, so that at last all desire in me to struggle against this depravity passed. It ended by my almost believing (perhaps actually believing) that this was perhaps my normal condition. But at first, in the beginning, what agonies I endured in that struggle! I did not believe it was the same with other people, and all my life I hid this fact about myself as a secret. I was ashamed (even now, perhaps, I am ashamed): I got to the point of feeling a sort of secret abnormal, despicable enjoyment in returning home to my corner on some disgusting Petersburg night, acutely conscious that that day I had committed a loathsome action again, that what was done could never be undone, and secretly, inwardly gnawing, gnawing at myself for it, tearing and consuming myself till at last the bitterness turned into a sort of shameful accursed sweetness, and at last—into positive real enjoyment! Yes, into enjoyment, into enjoyment! I insist upon that. I have spoken of this because I keep wanting to know for a fact whether other people feel such enjoyment? I will explain; the enjoyment was just from the too intense consciousness of one’s own degradation; it was from feeling oneself that one had reached the last barrier, that it was horrible, but that it could not be otherwise; that there was no escape for you; that you never could become a different man; that even if time and faith were still left you to change into something different you would most likely not wish to change; or if you did wish to, even then you would do nothing; because perhaps in reality there was nothing for you to change into.
And the worst of it was, and the root of it all, that it was all in accord with the normal fundamental laws of over-acute consciousness, and with the inertia that was the direct result of those laws, and that consequently one was not only unable to change but could do absolutely nothing. Thus it would follow, as the result of acute consciousness, that one is not to blame in being a scoundrel; as though that were any consolation to the scoundrel once he has come to realize that he actually is a scoundrel. But enough.... Ech, I have talked a lot of nonsense, but what have I explained? How is enjoyment in this to be explained? But I will explain it. I will get to the bottom of it! That is why I have taken up my pen....
I, for instance, have a great deal of amour propre. I am as suspicious and prone to take offence as a humpback or a dwarf. But upon my word I sometimes have had moments when if I had happened to be slapped in the face I should, perhaps, have been positively glad of it. I say, in earnest, that I should probably have been able to discover even in that a peculiar sort of enjoyment—the enjoyment, of course, of despair; but in despair there are the most intense enjoyments, especially when one is very acutely conscious of the hopelessness of one’s position. And when one is slapped in the face—why then the consciousness of being rubbed into a pulp would positively overwhelm one. The worst of it is, look at it which way one will, it still turns out that I was always the most to blame in everything. And what is most humiliating of all, to blame for no fault of my own but, so to say, through the laws of nature. In the first place, to blame because I am cleverer than any of the people surrounding me. (I have always considered myself cleverer than any of the people surrounding me, and sometimes, would you believe it, have been positively ashamed of it. At any rate, I have all my life, as it were, turned my eyes away and never could look people straight in the face.) To blame, finally, because even if I had had magnanimity, I should only have had more suffering from the sense of its uselessness. I should certainly have never been able to do anything from being magnanimous—neither to forgive, for my assailant would perhaps have slapped me from the laws of nature, and one cannot forgive the laws of nature; nor to forget, for even if it were owing to the laws of nature, it is insulting all the same. Finally, even if I had wanted to be anything but magnanimous, had desired on the contrary to revenge myself on my assailant, I could not have revenged myself on any one for anything because I should certainly never have made up my mind to do anything, even if I had been able to. Why should I not have made up my mind? About that in particular I want to say a few words.
III
With people who know how to revenge themselves and to stand up for themselves in general, how is it done? Why, when they are possessed, let us suppose, by the feeling of revenge, then for the time there is nothing else but that feeling left in their whole being. Such a gentleman simply dashes straight for his object like an infuriated bull with its horns down, and nothing but a wall will stop him. (By the way: facing the wall, such gentlemen—that is, the "direct" persons and men of action—are genuinely nonplussed. For them a wall is not an evasion, as for us people who think and consequently do nothing; it is not an excuse for turning aside, an excuse for which we are always very glad, though we scarcely believe in it ourselves, as a rule. No, they are nonplussed in all sincerity. The wall has for them something tranquillizing, morally soothing, final—maybe even something mysterious ... but of the wall later.)
Well, such a direct person I regard as the real normal man, as his tender mother nature wished to see him when she graciously brought him into being on the earth. I envy such a man till I am green in the face. He is stupid. I am not disputing that, but perhaps the normal man should be stupid, how do you know? Perhaps it is very beautiful, in fact. And I am the more persuaded of that suspicion, if one can call it so, by the fact that if you take, for instance, the antithesis of the normal man, that is, the man of acute consciousness, who has come, of course, not out of the lap of nature but out of a retort (this is almost mysticism, gentlemen, but I suspect this, too), this retort-made man is sometimes so nonplussed in the presence of his antithesis that with all his exaggerated consciousness he genuinely thinks of himself as a mouse and not a man. It may be an acutely conscious mouse, yet it is a mouse, while the other is a man, and therefore, et cætera, et cætera. And the worst of it is, he himself, his very own self, looks on himself as a mouse; no one asks him to do so; and that is an important point. Now let us look at this mouse in action. Let us suppose, for instance, that it feels insulted, too (and it almost always does feel insulted), and wants to revenge itself, too. There may even be a greater accumulation of spite in it than in l’homme de la nature et de la vérité [4]. The base and nasty desire to vent that spite on its assailant rankles perhaps even more nastily in it than in l’homme de la nature et de la vérité. For through his innate stupidity the latter looks upon his revenge as justice pure and simple; while in consequence of his acute consciousness the mouse does not believe in the justice of it. To come at last to the deed itself, to the very act of revenge. Apart from the one fundamental nastiness the luckless mouse succeeds in creating around it so many other nastinesses in the form of doubts and questions, adds to the one question so many unsettled questions that there inevitably works up around it a sort of fatal brew, a stinking mess, made up of its doubts, emotions, and of the contempt spat upon it by the direct men of action who stand solemnly about it as judges and arbitrators, laughing at it till their healthy sides ache. Of course the only thing left for it is to dismiss all that with a wave of its paw, and, with a smile of assumed contempt in which it does not even itself believe, creep ignominiously into its mouse-hole. There in its nasty, stinking, underground home our insulted, crushed and ridiculed mouse promptly becomes absorbed in cold, malignant and, above all, everlasting spite. For forty years together it will remember its injury down to the smallest, most ignominious details, and every time will add, of itself, details still more ignominious, spitefully teasing and tormenting itself with its own imagination. It will itself be ashamed of its imaginings, but yet it will recall it all, it will go over and over every detail, it will invent unheard of things against itself, pretending that those things might happen, and will forgive nothing. Maybe it will begin to revenge itself, too, but, as it were, piecemeal, in trivial ways, from behind the stove, incognito, without believing either in its own right to vengeance, or in the success of its revenge, knowing that from all its efforts at revenge it will suffer a hundred times more than he on whom it revenges itself, while he, I daresay, will not even scratch himself. On its deathbed it will recall it all over again, with interest accumulated over all the years and....
But it is just in that cold, abominable half despair, half belief, in that conscious burying oneself alive for grief in the underworld for forty years, in that acutely recognized and yet partly doubtful hopelessness of one’s position, in that hell of unsatisfied desires turned inward, in that fever of oscillations, of resolutions determined for ever and repented of again a minute later—that the savour of that strange enjoyment of which I have spoken lies. It is so subtle, so difficult of analysis, that persons who are a little limited, or even simply persons of strong nerves, will not understand a single atom of it. "Possibly," you will add on your own account with a grin, "people will not understand it either who have never received a slap in the face," and in that way you will politely hint to me that I, too, perhaps, have had the experience of a slap in the face in my life, and so I speak as one who knows. I bet that you are thinking that. But set your minds at rest, gentlemen, I have not received a slap in the face, though it is absolutely a matter of indifference to me what you may think about it. Possibly, I even regret, myself, that I have given so few slaps in the face during my life. But enough ... not another word on that subject of such extreme interest to you.
I will continue calmly concerning persons with strong nerves who do not understand a certain refinement of enjoyment. Though in certain circumstances these gentlemen bellow their loudest like bulls, though this, let us suppose, does them the greatest credit, yet, as I have said already, confronted with the impossible they subside at once. The impossible means the stone wall! What stone wall? Why, of course, the laws of nature, the deductions of natural science, mathematics. As soon as they prove to you, for instance, that you are descended from a monkey, then it is no use scowling, accept it for a fact. When they prove to you that in reality one drop of your own fat must be dearer to you than a hundred thousand of your fellow creatures, and that this conclusion is the final solution of all so-called virtues and duties and all such prejudices and fancies, then you have just to accept it, there is no help for it, for twice two is a law of mathematics. Just try refuting it.
"Upon my word, they will shout at you, it is no use protesting: it is a case of twice two makes four! Nature does not ask your permission, she has nothing to do with your wishes, and whether you like her laws or dislike them, you are bound to accept her as she is, and consequently all her conclusions. A wall, you see, is a wall ... and so on, and so on."
Merciful Heavens! but what do I care for the laws of nature and arithmetic, when, for some reason I dislike those laws and the fact that twice two makes four? Of course I cannot break through the wall by battering my head against it if I really have not the strength to knock it down, but I am not going to be reconciled to it simply because it is a stone wall and I have not the strength.
As though such a stone wall really were a consolation, and really did contain some word of conciliation, simply because it is as true as twice two makes four. Oh, absurdity of absurdities! How much better it is to understand it all, to recognize it all, all the impossibilities and the stone wall; not to be reconciled to one of those impossibilities and stone walls if it disgusts you to be reconciled to it; by the way of the most inevitable, logical combinations to reach the most revolting conclusions on the everlasting theme, that even for the stone wall you are yourself somehow to blame, though again it is as clear as day you are not to blame in the least, and therefore grinding your teeth in silent impotence to sink into luxurious inertia, brooding on the fact that there is no one even for you to feel vindictive against, that you have not, and perhaps never will have, an object for your spite, that it is a sleight of hand, a bit of juggling, a card-sharper’s trick, that it is simply a mess, no knowing what and no knowing who, but in spite of all these uncertainties and jugglings, still there is an ache in you, and the more you do not know, the worse the ache.
IV
"Ha, ha, ha! You will be finding enjoyment in toothache next," you cry, with a laugh.
"Well? Even in toothache there is enjoyment," I answer. I had toothache for a whole month and I know there is. In that case, of course, people are not spiteful in silence, but moan; but they are not candid moans, they are malignant moans, and the malignancy is the whole point. The enjoyment of the sufferer finds expression in those moans; if he did not feel enjoyment in them he would not moan. It is a good example, gentlemen, and I will develop it. Those moans express in the first place all the aimlessness of your pain, which is so humiliating to your consciousness; the whole legal system of nature on which you spit disdainfully, of course, but from which you suffer all the same while she does not. They express the consciousness that you have no enemy to punish, but that you have pain; the consciousness that in spite of all possible Wagenheims [5] you are in complete slavery to your teeth; that if some one wishes it, your teeth will leave off aching, and if he does not, they will go on aching another three months; and that finally if you are still contumacious and still protest, all that is left you for your own gratification is to thrash yourself or beat your wall with your fist as hard as you can, and absolutely nothing more. Well, these mortal insults, these jeers on the part of some one unknown, end at last in an enjoyment which sometimes reaches the highest degree of voluptuousness. I ask you, gentlemen, listen sometimes to the moans of an educated man of the nineteenth century suffering from toothache, on the second or third day of the attack, when he is beginning to moan, not as he moaned on the first day, that is, not simply because he has toothache, not just as any coarse peasant, but as a man affected by progress and European civilization, a man who is "divorced from the soil and the national elements," as they express it now-a-days. His moans become nasty, disgustingly malignant, and go on for whole days and nights. And of course he knows himself that he is doing himself no sort of good with his moans; he knows better than any one that he is only lacerating and harassing himself and others for nothing; he knows that even the audience before whom he is making his efforts, and his whole family, listen to him with loathing, do not put a ha’porth of faith in him, and inwardly understand that he might moan differently, more simply, without trills and flourishes, and that he is only amusing himself like that from ill-humour, from malignancy. Well, in all these recognitions and disgraces it is that there lies a voluptuous pleasure. As though he would say: "I am worrying you, I am lacerating your hearts, I am keeping every one in the house awake. Well, stay awake then, you, too, feel every minute that I have toothache. I am not a hero to you now, as I tried to seem before, but simply a nasty person, an impostor. Well, so be it, then! I am very glad that you see through me. It is nasty for you to hear my despicable moans: well, let it be nasty; here I will let you have a nastier flourish in a minute...." You do not understand even now, gentlemen? No, it seems our development and our consciousness must go further to understand all the intricacies of this pleasure. You laugh? Delighted. My jests, gentlemen, are of course in bad taste, jerky, involved, lacking self-confidence. But of course that is because I do not respect myself. Can a man of perception respect himself at all?
V
Come, can a man who attempts to find enjoyment in the very feeling of his own degradation possibly have a spark of respect for himself? I am not saying this now from any mawkish kind of remorse. And, indeed, I could never endure saying, "Forgive me, Papa, I won’t do it again," not because I am incapable of saying that—on the contrary, perhaps just because I have been too capable of it, and in what a way, too! As though of design I used to get into trouble in cases when I was not to blame in any way. That was the nastiest part of it. At the same time I was genuinely touched and penitent, I used to shed tears and, of course, deceived myself, though I was not acting in the least and there was a sick feeling in my heart at the time.... For that one could not blame even the laws of nature, though the laws of nature have continually all my life offended me more than anything. It is loathsome to remember it all, but it was loathsome even then. Of course, a minute or so later I would realize wrathfully that it was all a lie, a revolting lie, an affected lie, that is, all this penitence, this emotion, these vows of reform. You will ask why did I worry myself with such antics: answer, because it was very dull to sit with one’s hands folded, and so one began cutting capers. That is really it. Observe yourselves more carefully, gentlemen, then you will understand that it is so. I invented adventures for myself and made up a life, so as at least to live in some way. How many times it has happened to me—well, for instance, to take offence simply on purpose, for nothing; and one knows oneself, of course, that one is offended at nothing, that one is putting it on, but yet one brings oneself, at last to the point of being really offended. All my life I have had an impulse to play such pranks, so that in the end I could not control it in myself. Another time, twice, in fact, I tried hard to be in love. I suffered, too, gentlemen, I assure you. In the depth of my heart there was no faith in my suffering, only a faint stir of mockery, but yet I did suffer, and in the real, orthodox way; I was jealous, beside myself ... and it was all from ennui, gentlemen, all from ennui; inertia overcame me. You know the direct, legitimate fruit of consciousness is inertia, that is, conscious sitting-with-the-hands-folded. I have referred to this already. I repeat, I repeat with emphasis: all "direct" persons and men of action are active just because they are stupid and limited. How explain that? I will tell you: in consequence of their limitation they take immediate and secondary causes for primary ones, and in that way persuade themselves more quickly and easily than other people do that they have found an infallible foundation for their activity, and their minds are at ease and you know that is the chief thing. To begin to act, you know, you must first have your mind completely at ease and no trace of doubt left in it. Why, how am I, for example to set my mind at rest? Where are the primary causes on which I am to build? Where are my foundations? Where am I to get them from? I exercise myself in reflection, and consequently with me every primary cause at once draws after itself another still more primary, and so on to infinity. That is just the essence of every sort of consciousness and reflection. It must be a case of the laws of nature again. What is the result of it in the end? Why, just the same. Remember I spoke just now of vengeance. (I am sure you did not take it in.) I said that a man revenges himself because he sees justice in it. Therefore he has found a primary cause, that is, justice. And so he is at rest on all sides, and consequently he carries out his revenge calmly and successfully, being persuaded that he is doing a just and honest thing. But I see no justice in it, I find no sort of virtue in it either, and consequently if I attempt to revenge myself, it is only out of spite. Spite, of course, might overcome everything, all my doubts, and so might serve quite successfully in place of a primary cause, precisely because it is not a cause. But what is to be done if I have not even spite (I began with that just now, you know)? In consequence again of those accursed laws of consciousness, anger in me is subject to chemical disintegration. You look into it, the object flies off into air, your reasons evaporate, the criminal is not to be found, the wrong becomes not a wrong but a phantom, something like the toothache, for which no one is to blame, and consequently there is only the same outlet left again—that is, to beat the wall as hard as you can. So you give it up with a wave of the hand because you have not found a fundamental cause. And try letting yourself be carried away by your feelings, blindly, without reflection, without a primary cause, repelling consciousness at least for a time; hate or love, if only not to sit with your hands folded. The day after to-morrow, at the latest, you will begin despising yourself for having knowingly deceived yourself. Result: a soap-bubble and inertia. Oh, gentlemen, do you know, perhaps I consider myself an intelligent man, only because all my life I have been able neither to begin nor to finish anything. Granted I am a babbler, a harmless vexatious babbler, like all of us. But what is to be done if the direct and sole vocation of every intelligent man is babble, that is, the intentional pouring of water through a sieve?
VI
Oh, if I had done nothing simply from laziness! Heavens, how I should have respected myself, then. I should have respected myself because I should at least have been capable of being lazy; there would at least have been one quality, as it were, positive in me, in which I could have believed myself. Question: What is he? Answer: A sluggard; how very pleasant it would have been to hear that of oneself! It would mean that I was positively defined, it would mean that there was something to say about me. "Sluggard"—why, it is a calling and vocation, it is a career. Do not jest, it is so. I should then be a member of the best club by right, and should find my occupation in continually respecting myself. I knew a gentleman who prided himself all his life on being a connoisseur of Lafitte. He considered this as his positive virtue, and never doubted himself. He died, not simply with a tranquil, but with a triumphant, conscience, and he was quite right, too. Then I should have chosen a career for myself, I should have been a sluggard and a glutton, not a simple one, but, for instance, one with sympathies for everything good and beautiful. How do you like that? I have long had visions of it. That "good and beautiful" weighs heavily on my mind at forty. But that is at forty; then—oh, then it would have been different! I should have found for myself a form of activity in keeping with it, to be precise, drinking to the health of everything "good and beautiful." I should have snatched at every opportunity to drop a tear into my glass and then to drain it to all that is "good and beautiful." I should then have turned everything into the good and the beautiful; in the nastiest, unquestionable trash, I should have sought out the good and the beautiful. I should have exuded tears like a wet sponge. An artist, for instance, paints a picture worthy of Gay [6]. At once I drink to the health of the artist who painted the picture worthy of Gay, because I love all that is "good and beautiful." An author has written As you will: at once I drink to the health of "any one you will" because I love all that is "good and beautiful."
I should claim respect for doing so. I should persecute any one who would not show me respect. I should live at ease, I should die with dignity, why, it is charming, perfectly charming! And what a good round belly I should have grown, what a treble chin I should have established, what a ruby nose I should have coloured for myself, so that every one would have said, looking at me: "Here is an asset! Here is something real and solid!" And, say what you like, it is very agreeable to hear such remarks about oneself in this negative age.
VII
But these are all golden dreams. Oh, tell me, who was it first announced, who was it first proclaimed, that man only does nasty things because he does not know his own interests; and that if he were enlightened, if his eyes were opened to his real normal interests, man would at once cease to do nasty things, would at once become good and noble because, being enlightened and understanding his real advantage, he would see his own advantage in the good and nothing else, and we all know that not one man can, consciously, act against his own interests, consequently, so to say, through necessity, he would begin doing good? Oh, the babe! Oh, the pure, innocent child! Why, in the first place, when in all these thousands of years has there been a time when man has acted only from his own interest? What is to be done with the millions of facts that bear witness that men, consciously, that is fully understanding their real interests, have left them in the background and have rushed headlong on another path, to meet peril and danger, compelled to this course by nobody and by nothing, but, as it were, simply disliking the beaten track, and have obstinately, wilfully, struck out another difficult, absurd way, seeking it almost in the darkness. So, I suppose, this obstinacy and perversity were pleasanter to them than any advantage.... Advantage! What is advantage? And will you take it upon yourself to define with perfect accuracy in what the advantage of man consists? And what if it so happens that a man’s advantage, sometimes, not only may, but even must, consist in his desiring in certain cases what is harmful to himself and not advantageous? And if so, if there can be such a case, the whole principle falls into dust. What do you think—are there such cases? You laugh; laugh away, gentlemen, but only answer me: have man’s advantages been reckoned up with perfect certainty? Are there not some which not only have not been included but cannot possibly be included under any classification? You see, you gentlemen have, to the best of my knowledge, taken your whole register of human advantages from the averages of statistical figures and politico-economical formulas. Your advantages are prosperity, wealth, freedom, peace—and so on, and so on. So that the man who should, for instance, go openly and knowingly in opposition to all that list would, to your thinking, and indeed mine, too, of course, be an obscurantist or an absolute madman: would not he? But, you know, this is what is surprising: why does it so happen that all these statisticians, sages and lovers of humanity, when they reckon up human advantages invariably leave out one? They don’t even take it into their reckoning in the form in which it should be taken, and the whole reckoning depends upon that. It would be no great matter, they would simply have to take it, this advantage, and add it to the list. But the trouble is, that this strange advantage does not fall under any classification and is not in place in any list. I have a friend for instance.... Ech! gentlemen, but of course he is your friend, too; and indeed there is no one, no one, to whom he is not a friend! When he prepares for any undertaking this gentleman immediately explains to you, elegantly and clearly, exactly how he must act in accordance with the laws of reason and truth. What is more, he will talk to you with excitement and passion of the true normal interests of man; with irony he will upbraid the shortsighted fools who do not understand their own interests, nor the true significance of virtue; and, within a quarter of an hour, without any sudden outside provocation, but simply through something inside him which is stronger than all his interests, he will go off on quite a different tack—that is, act in direct opposition to what he has just been saying about himself, in opposition to the laws of reason, in opposition to his own advantage, in fact in opposition to everything.... I warn you that my friend is a compound personality, and therefore it is difficult to blame him as an individual. The fact is, gentlemen, it seems there must really exist something that is dearer to almost every man than his greatest advantages, or (not to be illogical) there is a most advantageous advantage (the very one omitted of which we spoke just now) which is more important and more advantageous than all other advantages, for the sake of which a man if necessary is ready to act in opposition to all laws; that is, in opposition to reason, honour, peace, prosperity—in fact, in opposition to all those excellent and useful things if only he can attain that fundamental, most advantageous advantage which is dearer to him than all. "Yes, but it’s advantage all the same" you will retort. But excuse me, I’ll make the point clear, and it is not a case of playing upon words. What matters is, that this advantage is remarkable from the very fact that it breaks down all our classifications, and continually shatters every system constructed by lovers of mankind for the benefit of mankind. In fact, it upsets everything. But before I mention this advantage to you, I want to compromise myself personally, and therefore I boldly declare that all these fine systems, all these theories for explaining to mankind their real normal interests, in order that inevitably striving to pursue these interests they may at once become good and noble—are, in my opinion, so far, mere logical exercises! Yes, logical exercises. Why, to maintain this theory of the regeneration of mankind by means of the pursuit of his own advantage is to my mind almost the same thing as ... as to affirm, for instance, following Buckle [7], that through civilization mankind becomes softer, and consequently less bloodthirsty and less fitted for warfare. Logically it does seem to follow from his arguments. But man has such a predilection for systems and abstract deductions that he is ready to distort the truth intentionally, he is ready to deny the evidence of his senses only to justify his logic. I take this example because it is the most glaring instance of it. Only look about you: blood is being spilt in streams, and in the merriest way, as though it were champagne. Take the whole of the nineteenth century in which Buckle lived. Take Napoleon—the Great and also the present one. Take North America—the eternal union. Take the farce of Schleswig-Holstein.... And what is it that civilization softens in us? The only gain of civilization for mankind is the greater capacity for variety of sensations—and absolutely nothing more. And through the development of this many-sidedness man may come to finding enjoyment in bloodshed. In fact, this has already happened to him. Have you noticed that it is the most civilized gentlemen who have been the subtlest slaughterers, to whom the Attilas and Stenka Razins could not hold a candle, and if they are not so conspicuous as the Attilas [8] and Stenka Razins [9] it is simply because they are so often met with, are so ordinary and have become so familiar to us. In any case civilization has made mankind if not more bloodthirsty, at least more vilely, more loathsomely bloodthirsty. In old days he saw justice in bloodshed and with his conscience at peace exterminated those he thought proper. Now we do think bloodshed abominable and yet we engage in this abomination, and with more energy than ever. Which is worse? Decide that for yourselves. They say that Cleopatra (excuse an instance from Roman history) was fond of sticking gold pins into her slave-girls’ breasts and derived gratification from their screams and writhings. You will say that that was in the comparatively barbarous times; that these are barbarous times too, because also, comparatively speaking, pins are stuck in even now; that though man has now learned to see more clearly than in barbarous ages, he is still far from having learnt to act as reason and science would dictate. But yet you are fully convinced that he will be sure to learn when he gets rid of certain old bad habits, and when common sense and science have completely re-educated human nature and turned it in a normal direction. You are confident that then man will cease from intentional error and will, so to say, be compelled not to want to set his will against his normal interests. That is not all; then, you say, science itself will teach man (though to my mind it’s a superfluous luxury) that he never has really had any caprice or will of his own, and that he himself is something of the nature of a piano key or the stop of an organ [10], and that there are, besides, things called the laws of nature; so that everything he does is not done by his willing it, but is done of itself, by the laws of nature. Consequently we have only to discover these laws of nature, and man will no longer have to answer for his actions and life will become exceedingly easy for him. All human actions will then, of course, be tabulated according to these laws, mathematically, like tables of logarithms up to 108,000, and entered in an index; or, better still, there would be published certain edifying
works of the nature of encyclopædic lexicons, in
which everything will be so clearly calculated and explained that there will be no more incidents or adventures in the world.
Then—this is all what you say—new economic relations will be established, all ready-made and worked out with mathematical exactitude, so that every possible question will vanish in the twinkling of an eye, simply because every possible answer to it will be provided. Then the "Palace of Crystal" will be built [11]. Then.... In fact, those will be halcyon days. Of course there is no guaranteeing (this is my comment) that it will not be, for instance, frightfully dull then (for what will one have to do when everything will be calculated and tabulated?), but on the other hand everything will be extraordinarily rational. Of course boredom may lead you to anything. It is boredom sets one sticking golden pins into people, but all that would not matter. What is bad (this is my comment again) is that I dare say people will be thankful for the gold pins then. Man is stupid, you know, phenomenally stupid; or rather he is not at all stupid, but he is so ungrateful that you could not find another like him in all creation. I, for instance, would not be in the least surprised if all of a sudden, à propos of nothing, in the midst of general prosperity a gentleman with an ignoble, or rather with a reactionary and ironical, countenance were to arise and, putting his arms akimbo, say to us all: "I say, gentlemen, hadn’t we better kick over the whole show and scatter rationalism to the winds, simply to send these logarithms to the devil, and to enable us to live once more at our own sweet foolish will!" That again would not matter; but what is annoying is that he would be sure to find followers—such is the nature of man. And all that for the most foolish reason, which, one would think, was hardly worth mentioning: that is, that man everywhere and at all times, whoever he may be, has preferred to act as he chose and not in the least as his reason and advantage dictated. And one may choose what is contrary to one’s own interests, and sometimes one positively ought (that is my idea). One’s own free unfettered choice, one’s own caprice, however wild it may be, one’s own fancy worked up at times to frenzy—is that very "most advantageous advantage" which we have overlooked, which comes under no classification and against which all systems and theories are continually being shattered to atoms. And how do these wiseacres know that man wants a normal, a virtuous choice? What has made them conceive that man must want a rationally advantageous choice? What man wants is simply independent choice, whatever that independence may cost and wherever it may lead. And choice, of course, the devil only knows what choice.…
VIII
"Ha! ha! ha! But you know there is no such thing as choice in reality, say what you like," you will interpose with a chuckle. "Science has succeeded in so far analysing man that we know already that choice and what is called freedom of will is nothing else than——"
Stay, gentlemen, I meant to begin with that myself. I confess, I was rather frightened. I was just going to say that the devil only knows what choice depends on, and that perhaps that was a very good thing, but I remembered the teaching of science ... and pulled myself up. And here you have begun upon it. Indeed, if there really is some day discovered a formula for all our desires and caprices—that is, an explanation of what they depend upon, by what laws they arise, how they develop, what they are aiming at in one case and in another and so on, that is a real mathematical formula—then, most likely, man will at once cease to feel desire, indeed, he will be certain to. For who would want to choose by rule? Besides, he will at once be transformed from a human being into an organ-stop or something of the sort; for what is a man without desires, without free will and without choice, if not a stop in an organ? What do you think? Let us reckon the chances—can such a thing happen or not?
"H’m!" you decide. "Our choice is usually mistaken from a false view of our advantage. We sometimes choose absolute nonsense because in our foolishness we see in that nonsense the easiest means for attaining a supposed advantage. But when all that is explained and worked out on paper (which is perfectly possible, for it is contemptible and senseless to suppose that some laws of nature man will never understand), then certainly so-called desires will no longer exist. For if a desire should come into conflict with reason we shall then reason and not desire, because it will be impossible retaining our reason to be senseless in our desires, and in that way knowingly act against reason and desire to injure ourselves. And as all choice and reasoning can be really calculated—because there will some day be discovered the laws of our so-called free will—so, joking apart, there may one day be something like a table constructed of them, so that we really shall choose in accordance with it. If, for instance, some day they calculate and prove to me that I made a long nose at some one because I could not help making a long nose at him and that I had to do it in that particular way, what freedom is left me, especially if I am a learned man and have taken my degree somewhere? Then I should be able to calculate my whole life for thirty years beforehand. In short, if this could be arranged there would be nothing left for us to do; anyway, we should have to understand that. And, in fact, we ought unwearyingly to repeat to ourselves that at such and such a time and in such and such circumstances nature does not ask our leave; that we have got to take her as she is and not fashion her to suit our fancy, and if we really aspire to formulas and tables of rules, and well, even ... to the chemical retort, there’s no help for it, we must accept the retort too, or else it will be accepted without our consent...."
Yes, but here I come to a stop! Gentlemen, you must excuse me for being over-philosophical; it’s the result of forty years underground! Allow me to indulge my fancy. You see, gentlemen, reason is an excellent thing, there’s no disputing that, but reason is nothing but reason and satisfies only the rational side of man’s nature, while will is a manifestation of the whole life, that is, of the whole human life including reason and all the impulses. And although our life, in this manifestation of it, is often worthless, yet it is life and not simply extracting square roots. Here I, for instance, quite naturally want to live, in order to satisfy all my capacities for life, and not simply my capacity for reasoning, that is, not simply one twentieth of my capacity for life. What does reason know? Reason only knows what it has succeeded in learning (some things, perhaps, it will never learn; this is a poor comfort, but why not say so frankly?) and human nature acts as a whole, with everything that is in it, consciously or unconsciously, and, even if it goes wrong, it lives. I suspect, gentlemen, that you are looking at me with compassion; you tell me again that an enlightened and developed man, such, in short, as the future man will be, cannot consciously desire anything disadvantageous to himself, that that can be proved mathematically. I thoroughly agree, it can—by mathematics. But I repeat for the hundredth time, there is one case, one only, when man may consciously, purposely, desire what is injurious to himself, what is stupid, very stupid—simply in order to have the right to desire for himself even what is very stupid and not to be bound by an obligation to desire only what is sensible. Of course, this very stupid thing, this caprice of ours, may be in reality, gentlemen, more advantageous for us than anything else on earth, especially in certain cases. And in particular it may be more advantageous than any advantage even when it does us obvious harm, and contradicts the soundest conclusions of our reason concerning our advantage—for in any circumstances it preserves for us what is most precious and most important—that is, our personality, our individuality. Some, you see, maintain that this really is the most precious thing for mankind; choice can, of course, if it chooses, be in agreement with reason; and especially if this be not abused but kept within bounds. It is profitable and sometimes even praiseworthy. But very often, and even most often, choice is utterly and stubbornly opposed to reason ... and ... and ... do you know that that, too, is profitable, sometimes even praiseworthy? Gentlemen, let us suppose that man is not stupid. (Indeed one cannot refuse to suppose that, if only from the one consideration, that, if man is stupid, then who is wise?) But if he is not stupid, he is monstrously ungrateful! Phenomenally ungrateful. In fact, I believe that the best definition of man is the ungrateful biped. But that is not all, that is not his worst defect; his worst defect is his perpetual moral obliquity, perpetual—from the days of the Flood to the Schleswig-Holstein period. Moral obliquity and consequently lack of good sense; for it has long been accepted that lack of good sense is due to no other cause than moral obliquity. Put it to the test and cast your eyes upon the history of mankind. What will you see? Is it a grand spectacle? Grand, if you like. Take the Colossus of Rhodes, for instance, that’s worth something. With good reason Mr. Anaevsky testifies of it that some say that it is the work of man’s hands, while others maintain that it has been created by nature herself. Is it many-coloured? May be it is many-coloured, too: if one takes the dress uniforms, military and civilian, of all peoples in all ages—that alone is worth something, and if you take the undress uniforms you will never get to the end of it; no historian would be equal to the job. Is it monotonous? May be it’s monotonous too: it’s fighting and fighting; they are fighting now, they fought first and they fought last—you will admit, that it is almost too monotonous. In short, one may say anything about the history of the world—anything that might enter the most disordered imagination. The only thing one can’t say is that it’s rational. The very word sticks in one’s throat. And, indeed, this is the odd thing that is continually happening: there are continually turning up in life moral and rational persons, sages and lovers of humanity who make it their object to live all their lives as morally and rationally as possible, to be, so to speak, a light to their neighbours simply in order to show them that it is possible to live morally and rationally in this world. And yet we all know that those very people sooner or later have been false to themselves, playing some queer trick, often a most unseemly one. Now I ask you: what can be expected of man since he is a being endowed with such strange qualities? Shower upon him every earthly blessing, drown him in a sea of happiness, so that nothing but bubbles of bliss can be seen on the surface; give him economic prosperity, such that he should have nothing else to do but sleep, eat cakes and busy himself with the continuation of his species, and even then out of sheer ingratitude, sheer spite, man would play you some nasty trick. He would even risk his cakes and would deliberately desire the most fatal rubbish, the most uneconomical absurdity, simply to introduce into all this positive good sense his fatal fantastic element. It is just his fantastic dreams, his vulgar folly that he will desire to retain, simply in order to prove to himself—as though that were so necessary—that men still are men and not the keys of a piano, which the laws of nature threaten to control so completely that soon one will be able to desire nothing but by the calendar. And that is not all: even if man really were nothing but a piano-key, even if this were proved to him by natural science and mathematics, even then he would not become reasonable, but would purposely do something perverse out of simple ingratitude, simply to gain his point. And if he does not find means he will contrive destruction and chaos, will contrive sufferings of all sorts, only to gain his point! He will launch a curse upon the world, and as only man can curse (it is his privilege, the primary distinction between him and other animals), may be by his curse alone he will attain his object—that is, convince himself that he is a man and not a piano-key! If you say that all this, too, can be calculated and tabulated—chaos and darkness and curses, so that the mere possibility of calculating it all beforehand would stop it all, and reason would reassert itself, then man would purposely go mad in order to be rid of reason and gain his point! I believe in it, I answer for it, for the whole work of man really seems to consist in nothing but proving to himself every minute that he is a man and not a piano-key! It may be at the cost of his skin, it may be by cannibalism! And this being so, can one help being tempted to rejoice that it has not yet come off, and that desire still depends on something we don’t know?
You will scream at me (that is, if you condescend to do so) that no one is touching my free will, that all they are concerned with is that my will should of itself, of its own free will, coincide with my own normal interests, with the laws of nature and arithmetic.
Good Heavens, gentlemen, what sort of free will is left when we come to tabulation and arithmetic, when it will all be a case of twice two make four? Twice two makes four without my will. As if free will meant that!
IX
Gentlemen, I am joking, and I know myself that my jokes are not brilliant, but you know one can’t take everything as a joke. I am, perhaps, jesting against the grain. Gentlemen, I am tormented by questions; answer them for me. You, for instance, want to cure men of their old habits and reform their will in accordance with science and good sense. But how do you know, not only that it is possible, but also that it is desirable, to reform man in that way? And what leads you to the conclusion that man’s inclinations need reforming? In short, how do you know that such a reformation will be a benefit to man? And to go to the root of the matter, why are you so positively convinced that not to act against his real normal interests guaranteed by the conclusions of reason and arithmetic is certainly always advantageous for man and must always be a law for mankind? So far, you know, this is only your supposition. It may be the law of logic, but not the law of humanity. You think, gentlemen, perhaps that I am mad? Allow me to defend myself. I agree that man is pre-eminently a creative animal, predestined to strive consciously for an object and to engage in engineering—that is, incessantly and eternally to make new roads, wherever they may lead. But the reason why he wants sometimes to go off at a tangent may just be that he is predestined to make the road, and perhaps, too, that however stupid the "direct" practical man may be, the thought sometimes will occur to him that the road almost always does lead somewhere, and that the destination it leads to is less important than the process of making it, and that the chief thing is to save the well-conducted child from despising engineering, and so giving way to the fatal idleness, which, as we all know, is the mother of all the vices. Man likes to make roads and to create, that is a fact beyond dispute. But why has he such a passionate love for destruction and chaos also? Tell me that! But on that point I want to say a couple of words myself. May it not be that he loves chaos and destruction (there can be no disputing that he does sometimes love it) because he is instinctively afraid of attaining his object and completing the edifice he is constructing? Who knows, perhaps he only loves that edifice from a distance, and is by no means in love with it at close quarters; perhaps he only loves building it and does not want to live in it, but will leave it, when completed, for the use of les animaux domestiques—such as the ants, the sheep, and so on. Now the ants have quite a different taste. They have a marvellous edifice of that pattern which endures for ever—the ant-heap.
With the ant-heap the respectable race of ants began and with the ant-heap they will probably end, which does the greatest credit to their perseverance and good sense. But man is a frivolous and incongruous creature, and perhaps, like a chess player, loves the process of the game, not the end of it. And who knows (there is no saying with certainty), perhaps the only goal on earth to which mankind is striving lies in this incessant process of attaining, in other words, in life itself, and not in the thing to be attained, which must always be expressed as a formula, as positive as twice two makes four, and such positiveness is not life, gentlemen, but is the beginning of death. Anyway, man has always been afraid of this mathematical certainty, and I am afraid of it now. Granted that man does nothing but seek that mathematical certainty, he traverses oceans, sacrifices his life in the quest, but to succeed, really to find it, he dreads, I assure you. He feels that when he has found it there will be nothing for him to look for. When workmen have finished their work they do at least receive their pay, they go to the tavern, then they are taken to the police-station—and there is occupation for a week. But where can man go? Anyway, one can observe a certain awkwardness about him when he has attained such objects. He loves the process of attaining, but does not quite like to have attained, and that, of course, is very absurd. In fact, man is a comical creature; there seems to be a kind of jest in it all. But yet mathematical certainty is, after all, something insufferable. Twice two makes four seems to me simply a piece of insolence. Twice two makes four is a pert coxcomb who stands with arms akimbo barring your path and spitting. I admit that twice two makes four is an excellent thing, but if we are to give everything its due, twice two makes five is sometimes a very charming thing too.
And why are you so firmly, so triumphantly, convinced that only the normal and the positive—in other words, only what is conducive to welfare—is for the advantage of man? Is not reason in error as regards advantage? Does not man, perhaps, love something besides well-being? Perhaps he is just as fond of suffering? Perhaps suffering is just as great a benefit to him as well-being? Man is sometimes extraordinarily, passionately, in love with suffering, and that is a fact. There is no need to appeal to universal history to prove that; only ask yourself, if you are a man and have lived at all. As far as my personal opinion is concerned, to care only for well-being seems to me positively ill-bred. Whether it’s good or bad, it is sometimes very pleasant, too, to smash things. I hold no brief for suffering nor for well-being either. I am standing for ... my caprice, and for its being guaranteed to me when necessary. Suffering would be out of place in vaudevilles, for instance; I know that. In the "Palace of Crystal" it is unthinkable; suffering means doubt, negation, and what would be the good of a "palace of crystal" if there could be any doubt about it? And yet I think man will never renounce real suffering, that is, destruction and chaos. Why, suffering is the sole origin of consciousness. Though I did lay it down at the beginning that consciousness is the greatest misfortune for man, yet I know man prizes it and would not give it up for any satisfaction. Consciousness, for instance, is infinitely superior to twice two makes four. Once you have mathematical certainty there is nothing left to do or to understand. There will be nothing left but to bottle up your five senses and plunge into contemplation. While if you stick to consciousness, even though the same result is attained, you can at least flog yourself at times, and that will, at any rate, liven you up. Reactionary as it is, corporal punishment is better than nothing.
X
You believe in a palace of crystal that can never be destroyed—a palace at which one will not be able to put out one’s tongue or make a long nose on the sly. And perhaps that is just why I am afraid of this edifice, that it is of crystal and can never be destroyed and that one cannot put one’s tongue out at it even on the sly.
You see, if it were not a palace, but a hen-house, I might creep into it to avoid getting wet, and yet I would not call the hen-house a palace out of gratitude to it for keeping me dry. You laugh and say that in such circumstances a hen-house is as good as a mansion. Yes, I answer, if one had to live simply to keep out of the rain.
But what is to be done if I have taken it into my head that that is not the only object in life, and that if one must live one had better live in a mansion. That is my choice, my desire. You will only eradicate it when you have changed my preference. Well, do change it, allure me with something else, give me another ideal. But meanwhile I will not take a hen-house for a mansion. The palace of crystal may be an idle dream, it may be that it is inconsistent with the laws of nature and that I have invented it only through my own stupidity, through the old-fashioned irrational habits of my generation. But what does it matter to me that it is inconsistent? That makes no difference since it exists in my desires, or rather exists as long as my desires exist. Perhaps you are laughing again? Laugh away; I will put up with any mockery rather than pretend that I am satisfied when I am hungry. I know, anyway, that I will not be put off with a compromise, with a recurring zero, simply because it is consistent with the laws of nature and actually exists. I will not accept as the crown of my desires a block of buildings with tenements for the poor on a lease of a thousand years, and perhaps with a sign-board of a dentist hanging out. Destroy my desires, eradicate my ideals, show me something better, and I will follow you. You will say, perhaps, that it is not worth your trouble; but in that case I can give you the same answer. We are discussing things seriously; but if you won’t deign to give me your attention, I will drop your acquaintance. I can retreat into my underground hole.
But while I am alive and have desires I would rather my hand were withered off than bring one brick to such a building! Don’t remind me that I have just rejected the palace of crystal for the sole reason that one cannot put out one’s tongue at it. I did not say because I am so fond of putting my tongue out. Perhaps the thing I resented was, that of all your edifices there has not been one at which one could not put out one’s tongue. On the contrary, I would let my tongue be cut off out of gratitude if things could be so arranged that I should lose all desire to put it out. It is not my fault that things cannot be so arranged, and that one must be satisfied with model flats. Then why am I made with such desires? Can I have been constructed simply in order to come to the conclusion that all my construction is a cheat? Can this be my whole purpose? I do not believe it.
But do you know what: I am convinced that we underground folk ought to be kept on a curb. Though we may sit forty years underground without speaking, when we do come out into the light of day and break out we talk and talk and talk.…
XI
The long and the short of it is, gentlemen, that it is better to do nothing! Better conscious inertia! And so hurrah for underground! Though I have said that I envy the normal man to the last drop of my bile, yet I should not care to be in his place such as he is now (though I shall not cease envying him). No, no; anyway the underground life is more advantageous. There, at any rate, one can.... Oh, but even now I am lying! I am lying because I know myself that it is not underground that is better, but something different, quite different, for which I am thirsting, but which I cannot find! Damn underground!
I will tell you another thing that would be better, and that is, if I myself believed in anything of what I have just written. I swear to you, gentlemen, there is not one thing, not one word of what I have written that I really believe. That is, I believe it, perhaps, but at the same time I feel and suspect that I am lying like a cobbler.
"Then why have you written all this?" you will say to me.
"I ought to put you underground for forty years without anything to do and then come to you in your cellar, to find out what stage you have reached! How can a man be left with nothing to do for forty years?"
"Isn’t that shameful, isn’t that humiliating?" you will say, perhaps, wagging your heads contemptuously. "You thirst for life and try to settle the problems of life by a logical tangle. And how persistent, how insolent are your sallies, and at the same time what a scare you are in! You talk nonsense and are pleased with it; you say impudent things and are in continual alarm and apologizing for them. You declare that you are afraid of nothing and at the same time try to ingratiate yourself in our good opinion. You declare that you are gnashing your teeth and at the same time you try to be witty so as to amuse us. You know that your witticisms are not witty, but you are evidently well satisfied with their literary value. You may, perhaps, have really suffered, but you have no respect for your own suffering. You may have sincerity, but you have no modesty; out of the pettiest vanity you expose your sincerity to publicity and ignominy. You doubtlessly mean to say something, but hide your last word through fear, because you have not the resolution to utter it, and only have a cowardly impudence. You boast of consciousness, but you are not sure of your ground, for though your mind works, yet your heart is darkened and corrupt, and you cannot have a full, genuine consciousness without a pure heart. And how intrusive you are, how you insist and grimace! Lies, lies, lies!"
Of course I have myself made up all the things you say. That, too, is from underground. I have been for forty years listening to you through a crack under the floor. I have invented them myself, there was nothing else I could invent. It is no wonder that I have learned it by heart and it has taken a literary form....
But can you really be so credulous as to think that I will print all this and give it to you to read too? And another problem: why do I call you "gentlemen," why do I address you as though you really were my readers? Such confessions as I intend to make are never printed nor given to other people to read. Anyway, I am not strong-minded enough for that, and I don’t see why I should be. But you see a fancy has occurred to me and I want to realize it at all costs. Let me explain.
Every man has reminiscences which he would not tell to every one, but only to his friends. He has other matters in his mind which he would not reveal even to his friends, but only to himself, and that in secret. But there are other things which a man is afraid to tell even to himself, and every decent man has a number of such things stored away in his mind. The more decent he is, the greater the number of such things in his mind. Anyway, I have only lately determined to remember some of my early adventures. Till now I have always avoided them, even with a certain uneasiness. Now, when I am not only recalling them, but have actually decided to write an account of them, I want to try the experiment whether one can, even with oneself, be perfectly open and not take fright at the whole truth. I will observe, in parenthesis, that Heine says that a true autobiography is almost an impossibility, and that man is bound to lie about himself. He considers that Rousseau certainly told lies about himself in his confessions, and even intentionally lied, out of vanity. I am convinced that Heine is right; I quite understand how sometimes one may, out of sheer vanity, attribute regular crimes to oneself, and indeed I can very well conceive that kind of vanity. But Heine judged of people who made their confessions to the public. I write only for myself, and I wish to declare once and for all that if I write as though I were addressing readers, that is simply because it is easier for me to write in that form. It is a form, an empty form—I shall never have readers. I have made this plain already....
I don’t wish to be hampered by any restrictions in the compilation of my notes. I shall not attempt any system or method. I will jot things down as I remember them.
But here, perhaps, some one will catch at the word and ask me: if you really don’t reckon on readers, why do you make such compacts with yourself—and on paper too—that is, that you won’t attempt any system or method, that you jot things down as you remember them, and so on, and so on? Why are you explaining? Why do you apologize?
Well, there it is, I answer.
There is a whole psychology in all this, though. Perhaps it is simply that I am a coward. And perhaps that I purposely imagine an audience before me in order that I may be more dignified while I write. There are perhaps thousands of reasons. Again, what is my object precisely in writing? If it is not for the benefit of the public why should I not simply recall these incidents in my own mind without putting them on paper?
Quite so; but yet it is more imposing on paper. There is something more impressive in it; I shall be better able to criticize myself and improve my style. Besides, I shall perhaps obtain actual relief from writing. To-day, for instance, I am particularly oppressed by one memory of a distant past. It came back vividly to my mind a few days ago, and has remained haunting me like an annoying tune that one cannot get rid of. And yet I must get rid of it somehow. I have hundreds of such reminiscences; but at times some one stands out from the hundred and oppresses me. For some reason I believe that if I write it down I should get rid of it. Why not try?
Besides, I am bored, and I never have anything to do. Writing will be a sort of work. They say work makes man kind-hearted and honest. Well, here is a chance for me, anyway.
Snow is falling to-day, yellow and dingy. It fell yesterday, too, and a few days ago. I fancy it is the wet snow that has reminded me of that incident which I cannot shake off now. And so let it be a story about wet snow.
PART II
ABOUT WET SNOW
When from the darkness of delusion
My words of passionate exhortation
Had wrenched thy fainting spirit free;
And writhing prone in thine affliction
Thou didst recall with malediction
The vice that had encompassed thee:
And when thy slumbering conscience, fretting
By recollection’s torturing flame,
Thou didst reveal the hideous setting
Of thy life’s current ere I came:
When suddenly I saw thee sicken,
And weeping, hide thine anguished face,
Revolted, maddened, horror-stricken,
At memories of foul disgrace...
– Nekrasov [12]
I
At that time I was only twenty-four. My life was even then gloomy, ill-regulated, and as solitary as that of a savage. I made friends with no one and positively avoided talking, and buried myself more and more in my hole. At work in the office I never looked at any one, and I was perfectly well aware that my companions looked upon me, not only as a queer fellow, but even looked upon me—I always fancied this—with a sort of loathing. I sometimes wondered why it was that nobody except me fancied that he was looked upon with aversion? One of the clerks had a most repulsive, pock-marked face, which looked positively villainous. I believe I should not have dared to look at any one with such an unsightly countenance. Another had such a very dirty old uniform that there was an unpleasant odour in his proximity. Yet not one of these gentlemen showed the slightest self-consciousness—either about their clothes or their countenance or their character in any way. Neither of them ever imagined that they were looked at with repulsion; if they had imagined it they would not have minded—so long as their superiors did not look at them in that way. It is clear to me now that, owing to my unbounded vanity and to the high standard I set for myself, I often looked at myself with furious discontent, which verged on loathing, and so I inwardly attributed the same feeling to every one. I hated my face, for instance: I thought it disgusting, and even suspected that there was something base in my expression, and so every day when I turned up at the office I tried to behave as independently as possible, and to assume a lofty expression, so that I might not be suspected of being abject. "My face may be ugly," I thought, "but let it be lofty, expressive, and, above all,extremely intelligent." But I was positively and painfully certain that it was impossible for my countenance ever to express those qualities. And what was worst of all, I thought it actually stupid looking, and I would have been quite satisfied if I could have looked intelligent. In fact, I would even have put up with looking base if, at the same time, my face could have been thought strikingly intelligent.
Of course, I hated my fellow clerks one and all, and I despised them all, yet at the same time I was, as it were, afraid of them. In fact, it happened at times that I thought more highly of them than of myself. It somehow happened quite suddenly that I alternated between despising them and thinking them superior to myself. A cultivated and decent man cannot be vain without setting a fearfully high standard for himself, and without despising and almost hating himself at certain moments. But whether I despised them or thought them superior I dropped my eyes almost every time I met any one. I even made experiments whether I could face so and so’s looking at me, and I was always the first to drop my eyes. This worried me to distraction. I had a sickly dread, too, of being ridiculous, and so had a slavish passion for the conventional in everything external. I loved to fall into the common rut, and had a whole-hearted terror of any kind of eccentricity in myself. But how could I live up to it? I was morbidly sensitive, as a man of our age should be. They were all stupid, and as like one another as so many sheep. Perhaps I was the only one in the office who fancied that I was a coward and a slave, and I fancied it just because I was more highly developed. But it was not only that I fancied it, it really was so. I was a coward and a slave. I say this without the slightest embarrassment. Every decent man of our age must be a coward and a slave. That is his normal condition. Of that I am firmly persuaded. He is made and constructed to that very end. And not only at the present time owing to some casual circumstances, but always, at all times, a decent man is bound to be a coward and a slave. It is the law of nature for all decent people all over the earth. If any one of them happens to be valiant about something, he need not be comforted nor carried away by that; he would show the white feather just the same before something else. That is how it invariably and inevitably ends. Only donkeys and mules are valiant, and they only till they are pushed up to the wall. It is not worth while to pay attention to them for they really are of no consequence.
Another circumstance, too, worried me in those days: that there was no one like me and I was unlike any one else. "I am alone and they are everyone," I thought—and pondered.
From that it is evident that I was still a youngster.
The very opposite sometimes happened. It was loathsome sometimes to go to the office; things reached such a point that I often came home ill. But all at once, à propos of nothing, there would come a phase of scepticism and indifference (everything happened in phases to me), and I would laugh myself at my intolerance and fastidiousness, I would reproach myself with being romantic. At one time I was unwilling to speak to any one, while at other times I would not only talk, but go to the length of contemplating making friends with them. All my fastidiousness would suddenly, for no rhyme or reason, vanish. Who knows, perhaps I never had really had it, and it had simply been affected, and got out of books. I have not decided that question even now. Once I quite made friends with them, visited their homes, played preference, drank vodka, talked of promotions.... But here let me make a digression.
We Russians, speaking generally, have never had those foolish transcendental "romantics"—German, and still more French—on whom nothing produces any effect; if there were an earthquake, if all France perished at the barricades, they would still be the same, they would not even have the decency to affect a change, but would still go on singing their transcendental songs to the hour of their death, because they are fools. We, in Russia, have no fools; that is well known. That is what distinguishes us from foreign lands. Consequently these transcendental natures are not found amongst us in their pure form. The idea that they are is due to our "realistic" journalists and critics of that day, always on the look out for Kostanzhoglos and Uncle Pyotr Ivanitchs [13] and foolishly accepting them as our ideal; they have slandered our romantics, taking them for the same transcendental sort as in Germany or France. On the contrary, the characteristics of our "romantics" are absolutely and directly opposed to the transcendental European type, and no European standard can be applied to them. (Allow me to make use of this word "romantic"—an old-fashioned and much respected word which has done good service and is familiar to all). The characteristics of our romantic are to understand everything, to see everything and to see it often incomparably more clearly than our most realistic minds see it; to refuse to accept anyone or anything, but at the same time not to despise anything; to give way, to yield, from policy; never to lose sight of a useful practical object (such as rent-free quarters at the government expense, pensions, decorations), to keep their eye on that object through all the enthusiasms and volumes of lyrical poems, and at the same time to preserve "the good and the beautiful" inviolate within them to the hour of their death, and to preserve themselves also, incidentally, like some precious jewel wrapped in cotton wool if only for the benefit of "the good and the beautiful." Our "romantic" is a man of great breadth and the greatest rogue of all our rogues, I assure you.... I can assure you from experience, indeed. Of course, that is, if he is intelligent. But what am I saying! The romantic is always intelligent, and I only meant to observe that although we have had foolish romantics they don’t count, and they were only so because in the flower of their youth they degenerated into Germans, and to preserve their precious jewel more comfortably, settled somewhere out there—by preference in Weimar or the Black Forest.
I, for instance, genuinely despised my official work and did not openly abuse it simply because I was in it myself and got a salary for it. Anyway, take note, I did not openly abuse it. Our romantic would rather go out of his mind—a thing, however, which very rarely happens—than take to open abuse, unless he had some other career in view; and he is never kicked out. At most, they would take him to the lunatic asylum as "the King of Spain" [14] if he should go very mad. But it is only the thin, fair people who go out of their minds in Russia. Innumerable "romantics" attain later in life to considerable rank in the service. Their many-sidedness is remarkable! And what a faculty they have for the most contradictory sensations! I was comforted by this thought even in those days, and I am of the same opinion now. That is why there are so many "broad natures" among us who never lose their ideal even in the depths of degradation; and though they never stir a finger for their ideal, though they are arrant thieves and knaves, yet they tearfully cherish their first ideal and are extraordinarily honest at heart. Yes, it is only among us that the most incorrigible rogue can be absolutely and loftily honest at heart without in the least ceasing to be a rogue. I repeat, our romantics, frequently, become such accomplished rascals (I use the term "rascals" affectionately), suddenly display such a sense of reality and practical knowledge that their bewildered superiors and the public generally can only ejaculate in amazement.
Their many-sidedness is really amazing, and goodness knows what it may develop into later on, and what the future has in store for us. It is not a poor material! I do not say this from any foolish or boastful patriotism. But I feel sure that you are again imagining that I am joking. Or perhaps it’s just the contrary, and you are convinced that I really think so. Anyway, gentlemen, I shall welcome both views as an honour and a special favour. And do forgive my digression.
I did not, of course, maintain friendly relations with my comrades and soon was at loggerheads with them, and in my youth and inexperience I even gave up bowing to them, as though I had cut off all relations. That, however, only happened to me once. As a rule, I was always alone.
In the first place I spent most of my time at home, reading. I tried to stifle all that was continually seething within me by means of external impressions. And the only external means I had was reading. Reading, of course, was a great help—exciting me, giving me pleasure and pain. But at times it bored me fearfully. One longed for movement in spite of everything, and I plunged all at once into dark, underground, loathsome vice of the pettiest kind. My wretched passions were acute, smarting, from my continual, sickly irritability. I had hysterical impulses, with tears and convulsions. I had no resource except reading, that is, there was nothing in my surroundings which I could respect and which attracted me. I was overwhelmed with depression, too; I had a hysterical craving for incongruity and for contrast, and so I took to vice. I have not said all this to justify myself.... But, no! I am lying. I did want to justify myself. I make that little observation for my own benefit, gentlemen. I don’t want to lie. I vowed to myself I would not.
And so, furtively, timidly, in solitude, at night, I indulged in filthy vice, with a feeling of shame which never deserted me, even at the most loathsome moments, and which at such moments nearly made me curse. Already even then I had my underground world in my soul. I was fearfully afraid of being seen, of being met, of being recognized. I visited various obscure haunts.
One night as I was passing a tavern I saw through a lighted window some gentlemen fighting with billiard cues, and saw one of them thrown out of window. At other times I should have felt very much disgusted, but I was in such a mood at the time, that I actually envied the gentleman thrown out of window—and I envied him so much that I even went into the tavern and into the billiard-room. "Perhaps," I thought, "I’ll have a fight, too, and they’ll throw me out of window."
I was not drunk—but what is one to do—depression will drive a man to such a pitch of hysteria? But nothing happened. It seemed that I was not even equal to being thrown out of window and I went away without having my fight.
An officer put me in my place from the first moment.
I was standing by the billiard-table and in my ignorance blocking up the way, and he wanted to pass; he took me by the shoulders and without a word—without a warning or explanation—moved me from where I was standing to another spot and passed by as though he had not noticed me. I could have forgiven blows, but I could not forgive his having moved me without noticing me.
Devil knows what I would have given for a real regular quarrel—a more decent, a more literary one, so to speak. I had been treated like a fly. This officer was over six foot, while I was a spindly little fellow. But the quarrel was in my hands. I had only to protest and I certainly would have been thrown out of the window. But I changed my mind and preferred to beat a resentful retreat.
I went out of the tavern straight home, confused and troubled, and the next night I went out again with the same lewd intentions, still more furtively, abjectly and miserably than before, as it were, with tears in my eyes—but still I did go out again. Don’t imagine, though, it was cowardice made me slink away from the officer: I never have been a coward at heart, though I have always been a coward in action. Don’t be in a hurry to laugh—I assure you I can explain it all.
Oh, if only that officer had been one of the sort who would consent to fight a duel! But no, he was one of those gentlemen (alas, long extinct!) who preferred fighting with cues or, like Gogol’s Lieutenant Pirogov [15], appealing to the police. They did not fight duels and would have thought a duel with a civilian like me an utterly unseemly procedure in any case—and they looked upon the duel altogether as something impossible, something free-thinking and French. But they were quite ready to bully, especially when they were over six foot.
I did not slink away through cowardice, but through an unbounded vanity. I was afraid not of his six foot, not of getting a sound thrashing and being thrown out of the window; I should have had physical courage enough, I assure you; but I had not the moral courage. What I was afraid of was that every one present, from the insolent marker down to the lowest little stinking, pimply clerk in a greasy collar, would jeer at me and fail to understand when I began to protest and to address them in literary language. For of the point of honour—not of honour, but of the point of honour (point d’honneur)—one cannot speak among us except in literary language. You can’t allude to the "point of honour" in ordinary language. I was fully convinced (the sense of reality, in spite of all my romanticism!) that they would all simply split their sides with laughter, and that the officer would not simply beat me, that is, without insulting me, but would certainly prod me in the back with his knee, kick me round the billiard table, and only then perhaps have pity and drop me out of the window.
Of course, this trivial incident could not with me end in that. I often met that officer afterwards in the street and noticed him very carefully. I am not quite sure whether he recognized me, I imagine not; I judge from certain signs. But I—I stared at him with spite and hatred and so it went on ... for several years! My resentment grew even deeper with years. At first I began making stealthy inquiries about this officer. It was difficult for me to do so, for I knew no one. But one day I heard some one shout his surname in the street as I was following him at a distance, as though I were tied to him—and so I learnt his surname. Another time I followed him to his flat, and for ten kopecks learned from the porter where he lived, on which storey, whether he lived alone or with others, and so on—in fact, everything one could learn from a porter. One morning, though I had never tried my hand with the pen, it suddenly occurred to me to write a satire on this officer in the form of a novel which would unmask his villainy. I wrote the novel with relish. I did unmask his villainy, I even exaggerated it; at first I so altered his surname that it could easily be recognized, but on second thoughts I changed it, and sent the story to the Otetchestvenniya Zapiski. But at that time such attacks were not the fashion and my story was not printed. That was a great vexation to me.
Sometimes I was positively choked with resentment. At last I determined to challenge my enemy to a duel. I composed a splendid, charming letter to him, imploring him to apologize to me, and hinting rather plainly at a duel in case of refusal. The letter was so composed that if the officer had had the least understanding of the good and the beautiful he would certainly have flung himself on my neck and have offered me his friendship. And how fine that would have been! How we should have got on together! "He could have shielded me with his higher rank, while I could have improved his mind with my culture, and, well ... my ideas, and all sorts of things might have happened." Only fancy, this was two years after his insult to me, and my challenge would have been a ridiculous anachronism, in spite of all the ingenuity of my letter in disguising and explaining away the anachronism. But, thank God (to this day I thank the Almighty with tears in my eyes) I did not send the letter to him. Cold shivers run down my back when I think of what might have happened if I had sent it.
And all at once I revenged myself in the simplest way, by a stroke of genius! A brilliant thought suddenly dawned upon me. Sometimes on holidays I used to stroll along the sunny side of the Nevsky about four o’clock in the afternoon. Though it was hardly a stroll so much as a series of innumerable miseries, humiliations and resentments; but no doubt that was just what I wanted. I used to wriggle along in a most unseemly fashion, like an eel, continually moving aside to make way for generals, for officers of the guards and the hussars, or for ladies. At such minutes there used to be a convulsive twinge at my heart, and I used to feel hot all down my back at the mere thought of the wretchedness of my attire, of the wretchedness and abjectness of my little scurrying figure. This was a regular martyrdom, a continual, intolerable humiliation at the thought, which passed into an incessant and direct sensation, that I was a mere fly in the eyes of all this world, a nasty, disgusting fly—more intelligent, more highly developed, more refined in feeling than any of them, of course—but a fly that was continually making way for every one, insulted and injured by every one. Why I inflicted this torture upon myself, why I went to the Nevsky, I don’t know. I felt simply drawn there at every possible opportunity.
Already then I began to experience a rush of the enjoyment of which I spoke in the first chapter. After my affair with the officer I felt even more drawn there than before: it was on the Nevsky that I met him most frequently, there I could admire him. He, too, went there chiefly on holidays. He, too, turned out of his path for generals and persons of high rank, and he, too, wriggled between them like an eel; but people, like me, or even better dressed like me, he simply walked over; he made straight for them as though there was nothing but empty space before him, and never, under any circumstances, turned aside. I gloated over my resentment watching him and ... always resentfully made way for him. It exasperated me that even in the street I could not be on an even footing with him.
"Why must you invariably be the first to move aside?" I kept asking myself in hysterical rage, waking up sometimes at three o’clock in the morning. "Why is it you and not he? There’s no regulation about it; there’s no written law. Let the making way be equal as it usually is when refined people meet: he moves half-way and you move half-way; you pass with mutual respect."
But that never happened, and I always moved aside, while he did not even notice my making way for him. And lo and behold a bright idea dawned upon me! "What," I thought, "if I meet him and don’t move on one side? What if I don’t move aside on purpose, even if I knock up against him? How would that be?" This audacious idea took such a hold on me that it gave me no peace. I was dreaming of it continually, horribly, and I purposely went more frequently to the Nevsky in order to picture more vividly how I should do it when I did do it. I was delighted. This intention seemed to me more and more practical and possible.
"Of course I shall not really push him," I thought, already more good-natured in my joy. "I will simply not turn aside, will run up against him, not very violently, but just shouldering each other—just as much as decency permits. I will push against him just as much as he pushes against me." At last I made up my mind completely. But my preparations took a great deal of time. To begin with, when I carried out my plan I should need to be looking rather more decent, and so I had to think of my get-up. "In case of emergency, if, for instance, there were any sort of public scandal (and the public there is of the most recherché: the Countess walks there; Prince D. walks there; all the literary world is there), I must be well dressed; that inspires respect and of itself puts us on an equal footing in the eyes of society."
With this object I asked for some of my salary in advance, and bought at Tchurkin’s a pair of black gloves and a decent hat. Black gloves seemed to me both more dignified and bon ton than the lemon-coloured ones which I had contemplated at first. "The colour is too gaudy, it looks as though one were trying to be conspicuous," and I did not take the lemon-coloured ones. I had got ready long beforehand a good shirt, with white bone studs; my overcoat was the only thing that held me back. The coat in itself was a very good one, it kept me warm; but it was wadded and it had a raccoon collar which was the height of vulgarity. I had to change the collar at any sacrifice, and to have a beaver one like an officer’s. For this purpose I began visiting the Gostiny Dvor and after several attempts I pitched upon a piece of cheap German beaver. Though these German beavers soon grow shabby and look wretched, yet at first they look exceedingly well, and I only needed it for one occasion. I asked the price; even so, it was too expensive. After thinking it over thoroughly I decided to sell my raccoon collar. The rest of the money—a considerable sum for me, I decided to borrow from Anton Antonitch Syetotchkin, my immediate superior, an unassuming person, though grave and judicious. He never lent money to any one, but I had, on entering the service, been specially recommended to him by an important personage who had got me my berth. I was horribly worried. To borrow from Anton Antonitch seemed to me monstrous and shameful. I did not sleep for two or three nights. Indeed, I did not sleep well at that time, I was in a fever; I had a vague sinking at my heart or else a sudden throbbing, throbbing, throbbing! Anton Antonitch was surprised at first, then he frowned, then he reflected, and did after all lend me the money, receiving from me a written authorization to take from my salary a fortnight later the sum that he had lent me.
In this way everything was at last ready. The handsome beaver replaced the mean-looking raccoon, and I began by degrees to get to work. It would never have done to act off-hand, at random; the plan had to be carried out skilfully, by degrees. But I must confess that after many efforts I began to despair: we simply could not run into each other. I made every preparation, I was quite determined—it seemed as though we should run into one another directly—and before I knew what I was doing I had stepped aside for him again and he had passed without noticing me. I even prayed as I approached him that God would grant me determination. One time I had made up my mind thoroughly, but it ended in my stumbling and falling at his feet because at the very last instant when I was six inches from him my courage failed me. He very calmly stepped over me, while I flew on one side like a ball. That night I was ill again, feverish and delirious.
And suddenly it ended most happily. The night before I had made up my mind not to carry out my fatal plan and to abandon it all, and with that object I went to the Nevsky for the last time, just to see how I would abandon it all. Suddenly, three paces from my enemy, I unexpectedly made up my mind—I closed my eyes, and we ran full tilt, shoulder to shoulder, against one another! I did not budge an inch and passed him on a perfectly equal footing! He did not even look round and pretended not to notice it; but he was only pretending, I am convinced of that. I am convinced of that to this day! Of course, I got the worst of it—he was stronger, but that was not the point. The point was that I had attained my object, I had kept up my dignity, I had not yielded a step, and had put myself publicly on an equal social footing with him. I returned home feeling that I was fully avenged for everything. I was delighted. I was triumphant and sang Italian arias. Of course, I will not describe to you what happened to me three days later; if you have read my first chapter you can guess that for yourself. The officer was afterwards transferred; I have not seen him now for fourteen years. What is the dear fellow doing now? Whom is he walking over?
II
But the period of my dissipation would end and I always felt very sick afterwards. It was followed by remorse—I tried to drive it away: I felt too sick. By degrees, however, I grew used to that too. I grew used to everything, or rather I voluntarily resigned myself to enduring it. But I had a means of escape that reconciled everything—that was to find refuge in "the good and the beautiful," in dreams, of course. I was a terrible dreamer, I would dream for three months on end, tucked away in my corner, and you may believe me that at those moments I had no resemblance to the gentleman who, in the perturbation of his chicken heart, put a collar of German beaver on his great coat. I suddenly became a hero. I would not have admitted my six-foot lieutenant even if he had called on me. I could not even picture him before me then. What were my dreams and how I could satisfy myself with them—it is hard to say now, but at the time I was satisfied with them. Though, indeed, even now, I am to some extent satisfied with them. Dreams were particularly sweet and vivid after a spell of dissipation; they came with remorse and with tears, with curses and transports. There were moments of such positive intoxication, of such happiness, that there was not the faintest trace of irony within me, on my honour. I had faith, hope, love. I believed blindly at such times that by some miracle, by some external circumstance, all this would suddenly open out, expand; that suddenly a vista of suitable activity—beneficent, good, and, above all, ready made (what sort of activity I had no idea, but the great thing was that it should be all ready for me)—would rise up before me—and I should come out into the light of day, almost riding a white horse and crowned with laurel. Anything but the foremost place I could not conceive for myself, and for that very reason I quite contentedly occupied the lowest in reality. Either to be a hero or to grovel in the mud—there was nothing between. That was my ruin, for when I was in the mud I comforted myself with the thought that at other times I was a hero, and the hero was a cloak for the mud: for an ordinary man it was shameful to defile himself, but a hero was too lofty to be utterly defiled, and so he might defile himself. It is worth noting that these attacks of the "good and the beautiful" visited me even during the period of dissipation and just at the times when I was touching the bottom. They came in separate spurts, as though reminding me of themselves, but did not banish the dissipation by their appearance. On the contrary, they seemed to add a zest to it by contrast, and were only sufficiently present to serve as an appetizing sauce. That sauce was made up of contradictions and sufferings, of agonizing inward analysis and all these pangs and pin-pricks gave a certain piquancy, even a significance to my dissipation—in fact, completely answered the purpose of an appetizing sauce. There was a certain depth of meaning in it. And I could hardly have resigned myself to the simple, vulgar, direct debauchery of a clerk and have endured all the filthiness of it. What could have allured me about it then and have drawn me at night into the street? No, I had a lofty way of getting out of it all.
And what loving-kindness, oh Lord, what loving-kindness I felt at times in those dreams of mine! in those "flights into the good and the beautiful;" though it was fantastic love, though it was never applied to anything human in reality, yet there was so much of this love that one did not feel afterwards even the impulse to apply it in reality; that would have been superfluous. Everything, however, passed satisfactorily by a lazy and fascinating transition into the sphere of art, that is, into the beautiful forms of life, lying ready, largely stolen from the poets and novelists and adapted to all sorts of needs and uses. I, for instance, was triumphant over every one; every one, of course, was in dust and ashes, and was forced spontaneously to recognize my superiority, and I forgave them all. I was a poet and a grand gentleman, I fell in love; I came in for countless millions and immediately devoted them to humanity, and at the same time I confessed before all the people my shameful deeds, which, of course, were not merely shameful, but had in them much that was "good and beautiful," something in the Manfred [16] style. Every one would kiss me and weep (what idiots they would be if they did not), while I should go barefoot and hungry preaching new ideas and fighting a victorious Austerlitz against the obscurantists. Then the band would play a march, an amnesty would be declared, the Pope would agree to retire from Rome to Brazil; then there would be a ball for the whole of Italy at the Villa Borghese on the shores of the Lake of Como, the Lake of Como being for that purpose transferred to the neighbourhood of Rome; then would come a scene in the bushes, and so on, and so on—as though you did not know all about it? You will say that it is vulgar and contemptible to drag all this into public after all the tears and transports which I have myself confessed. But why is it contemptible? Can you imagine that I am ashamed of it all, and that it was stupider than anything in your life, gentlemen? And I can assure you that some of these fancies were by no means badly composed.... It did not all happen on the shores of Lake Como. And yet you are right—it really is vulgar and contemptible. And most contemptible of all it is that now I am attempting to justify myself to you. And even more contemptible than that is my making this remark now. But that’s enough, or there will be no end to it: each step will be more contemptible than the last....
I could never stand more than three months of dreaming at a time without feeling an irresistible desire to plunge into society. To plunge into society meant to visit my superior at the office, Anton Antonitch Syetotchkin. He was the only permanent acquaintance I have had in my life, and wonder at the fact myself now. But I only went to see him when that phase came over me, and when my dreams had reached such a point of bliss that it became essential at once to embrace my fellows and all mankind; and for that purpose I needed, at least, one human being, actually existing. I had to call on Anton Antonitch, however, on Tuesday—his at-home day; so I had always to time my passionate desire to embrace humanity so that it might fall on a Tuesday.
This Anton Antonitch lived on the fourth storey in a house in Five Corners, in four low-pitched rooms, one smaller than the other, of a particularly frugal and sallow appearance. He had two daughters and their aunt, who used to pour out the tea. Of the daughters one was thirteen and another fourteen, they both had snub noses, and I was awfully shy of them because they were always whispering and giggling together. The master of the house usually sat in his study on a leather couch in front of the table with some grey-headed gentleman, usually a colleague from our office or some other department. I never saw more than two or three visitors there, always the same. They talked about the excise duty; about business in the senate, about salaries, about promotions, about His Excellency, and the best means of pleasing him, and so on. I had the patience to sit like a fool beside these people for four hours at a stretch, listening to them without knowing what to say to them or venturing to say a word. I became stupified, several times I felt myself perspiring, I was overcome by a sort of paralysis; but this was pleasant and good for me. On returning home I deferred for a time my desire to embrace all mankind.
I had however one other acquaintance of a sort, Simonov, who was an old schoolfellow. I had a number of schoolfellows indeed in Petersburg, but I did not associate with them and had even given up nodding to them in the street. I believe I had transferred into the department I was in simply to avoid their company and to cut off all connection with my hateful childhood. Curses on that school and all those terrible years of penal servitude! In short, I parted from my schoolfellows as soon as I got out into the world. There were two or three left to whom I nodded in the street. One of them was Simonov, who had been in no way distinguished at school, was of a quiet and equable disposition; but I discovered in him a certain independence of character and even honesty. I don’t even suppose that he was particularly stupid. I had at one time spent some rather soulful moments with him, but these had not lasted long and had somehow been suddenly clouded over. He was evidently uncomfortable at these reminiscences, and was, I fancy, always afraid that I might take up the same tone again. I suspected that he had an aversion for me, but still I went on going to see him, not being quite certain of it.
And so on one occasion, unable to endure my solitude and knowing that as it was Thursday Anton Antonitch’s door would be closed, I thought of Simonov. Climbing up to his fourth storey I was thinking that the man disliked me and that it was a mistake to go and see him. But as it always happened that such reflections impelled me, as though purposely, to put myself into a false position, I went in. It was almost a year since I had last seen Simonov.
III
I found two of my old schoolfellows with him. They seemed to be discussing an important matter. All of them took scarcely any notice of my entrance, which was strange, for I had not met them for years. Evidently they looked upon me as something on the level of a common fly. I had not been treated like that even at school, though they all hated me. I knew, of course, that they must despise me now for my lack of success in the service, and for my having let myself sink so low, going about badly dressed and so on—which seemed to them a sign of my incapacity and insignificance. But I had not expected such contempt. Simonov was positively surprised at my turning up. Even in old days he had always seemed surprised at my coming. All this disconcerted me: I sat down, feeling rather miserable, and began listening to what they were saying.
They were engaged in warm and earnest conversation about a farewell dinner which they wanted to arrange for the next day to a comrade of theirs called Zverkov, an officer in the army, who was going away to a distant province. This Zverkov had been all the time at school with me too. I had begun to hate him particularly in the upper forms. In the lower forms he had simply been a pretty, playful boy whom everybody liked. I had hated him, however, even in the lower forms, just because he was a pretty and playful boy. He was always bad at his lessons and got worse and worse as he went on; however, he left with a good certificate, as he had powerful interest. During his last year at school he came in for an estate of two hundred serfs, and as almost all of us were poor he took up a swaggering tone among us. He was vulgar in the extreme, but at the same time he was a good-natured fellow, even in his swaggering. In spite of superficial, fantastic and sham notions of honour and dignity, all but very few of us positively grovelled before Zverkov, and the more so the more he swaggered. And it was not from any interested motive that they grovelled, but simply because he had been favoured by the gifts of nature. Moreover, it was, as it were, an accepted idea among us that Zverkov was a specialist in regard to tact and the social graces. This last fact particularly infuriated me. I hated the abrupt self-confident tone of his voice, his admiration of his own witticisms, which were often frightfully stupid, though he was bold in his language; I hated his handsome, but stupid face (for which I would, however, have gladly exchanged my intelligent one), and the free-and-easy military manners in fashion in the "’forties." I hated the way in which he used to talk of his future conquests of women (he did not venture to begin his attack upon women until he had the epaulettes of an officer, and was looking forward to them with impatience), and boasted of the duels he would constantly be fighting. I remember how I, invariably so taciturn, suddenly fastened upon Zverkov, when one day talking at a leisure moment with his schoolfellows of his future relations with the fair sex, and growing as sportive as a puppy in the sun, he all at once declared that he would not leave a single village girl on his estate unnoticed, that that was his droit de seigneur [17], and that if the peasants dared to protest he would have them all flogged and double the tax on them, the bearded rascals. Our servile rabble applauded, but I attacked him, not from compassion for the girls and their fathers, but simply because they were applauding such an insect. I got the better of him on that occasion, but though Zverkov was stupid he was lively and impudent, and so laughed it off, and in such a way that my victory was not really complete: the laugh was on his side. He got the better of me on several occasions afterwards, but without malice, jestingly, casually. I remained angrily and contemptuously silent and would not answer him. When we left school he made advances to me; I did not rebuff them, for I was flattered, but we soon parted and quite naturally. Afterwards I heard of his barrack-room success as a lieutenant, and of the fast life he was leading. Then there came other rumours—of his successes in the service. By then he had taken to cutting me in the street, and I suspected that he was afraid of compromising himself by greeting a personage as insignificant as me. I saw him once in the theatre, in the third tier of boxes. By then he was wearing shoulder-straps. He was twisting and twirling about, ingratiating himself with the daughters of an ancient General. In three years he had gone off considerably, though he was still rather handsome and adroit. One could see that by the time he was thirty he would be corpulent. So it was to this Zverkov that my schoolfellows were going to give a dinner on his departure. They had kept up with him for those three years, though privately they did not consider themselves on an equal footing with him, I am convinced of that.
Of Simonov’s two visitors, one was Ferfitchkin, a Russianized German—a little fellow with the face of a monkey, a blockhead who was always deriding every one, a very bitter enemy of mine from our days in the lower forms—a vulgar, impudent, swaggering fellow, who affected a most sensitive feeling of personal honour, though, of course, he was a wretched little coward at heart. He was one of those worshippers of Zverkov who made up to the latter from interested motives, and often borrowed money from him. Simonov’s other visitor, Trudolyubov, was a person in no way remarkable—a tall young fellow, in the army, with a cold face, fairly honest, though he worshipped success of every sort, and was only capable of thinking of promotion. He was some sort of distant relation of Zverkov’s, and this, foolish as it seems, gave him a certain importance among us. He always thought me of no consequence whatever; his behaviour to me, though not quite courteous, was tolerable.
"Well, with seven roubles each," said Trudolyubov, "twenty-one roubles between the three of us, we ought to be able to get a good dinner. Zverkov, of course, won’t pay."
"Of course not, since we are inviting him," Simonov decided.
"Can you imagine," Ferfitchkin interrupted hotly and conceitedly, like some insolent flunkey boasting of his master the General’s decorations, "can you imagine that Zverkov will let us pay alone? He will accept from delicacy, but he will order half a dozen bottles of champagne."
"Do we want half a dozen for the four of us?" observed Trudolyubov, taking notice only of the half dozen.
"So the three of us, with Zverkov for the fourth, twenty-one roubles, at the Hôtel de Paris at five o’clock to-morrow," Simonov, who had been asked to make the arrangements, concluded finally.
"How twenty-one roubles?" I asked in some agitation, with a show of being offended; "if you count me it will not be twenty-one, but twenty-eight roubles."
It seemed to me that to invite myself so suddenly and unexpectedly would be positively graceful, and that they would all be conquered at once and would look at me with respect.
"Do you want to join, too?" Simonov observed, with no appearance of pleasure, seeming to avoid looking at me. He knew me through and through.
It infuriated me that he knew me so thoroughly.
"Why not? I am an old schoolfellow of his, too, I believe, and I must own I feel hurt that you have left me out," I said, boiling over again.
"And where were we to find you?" Ferfitchkin put in roughly.
"You never were on good terms with Zverkov," Trudolyubov added, frowning.
But I had already clutched at the idea and would not give it up.
"It seems to me that no one has a right to form an opinion upon that," I retorted in a shaking voice, as though something tremendous had happened. "Perhaps that is just my reason for wishing it now, that I have not always been on good terms with him."
"Oh, there’s no making you out ... with these refinements," Trudolyubov jeered.
"We’ll put your name down," Simonov decided, addressing me. "To-morrow at five o’clock at the Hôtel de Paris."
"What about the money?" Ferfitchkin began in an undertone, indicating me to Simonov, but he broke off, for even Simonov was embarrassed.
"That will do," said Trudolyubov, getting up. "If he wants to come so much, let him."
"But it’s a private thing, between us friends," Ferfitchkin said crossly, as he, too, picked up his hat. "It’s not an official gathering."
"We do not want at all, perhaps...."
They went away. Ferfitchkin did not greet me in any way as he went out, Trudolyubov barely nodded. Simonov, with whom I was left tête-à-tête, was in a state of vexation and perplexity, and looked at me queerly. He did not sit down and did not ask me to.
"H’m ... yes ... to-morrow, then. Will you pay your subscription now? I just ask so as to know," he muttered in embarrassment.
I flushed crimson, and as I did so I remembered that I had owed Simonov fifteen roubles for ages—which I had, indeed, never forgotten, though I had not paid it.
"You will understand, Simonov, that I could have no idea when I came here.... I am very much vexed that I have forgotten...."
"All right, all right, that doesn’t matter. You can pay to-morrow after the dinner. I simply wanted to know.... Please don’t...."
He broke off and began pacing the room still more vexed. As he walked he began to stamp with his heels.
"Am I keeping you?" I asked, after two minutes of silence.
"Oh!" he said, starting, "that is—to be truthful—yes. I have to go and see some one ... not far from here," he added in an apologetic voice, somewhat abashed.
"My goodness, why didn’t you say so?" I cried, seizing my cap, with an astonishingly free-and-easy air, which was the last thing I should have expected of myself.
"It’s close by ... not two paces away," Simonov repeated, accompanying me to the front door with a fussy air which did not suit him at all. "So five o’clock, punctually, to-morrow," he called down the stairs after me. He was very glad to get rid of me. I was in a fury.
"What possessed me, what possessed me to force myself upon them?" I wondered, grinding my teeth as I strode along the street, "for a scoundrel, a pig like that Zverkov! Of course, I had better not go; of course, I must just snap my fingers at them. I am not bound in any way. I’ll send Simonov a note by to-morrow’s post...."
But what made me furious was that I knew for certain that I should go, that I should make a point of going; and the more tactless, the more unseemly my going would be, the more certainly I would go.
And there was a positive obstacle to my going: I had no money. All I had was nine roubles, I had to give seven of that to my servant, Apollon, for his monthly wages. That was all I paid him—he had to keep himself.
Not to pay him was impossible, considering his character. But I will talk about that fellow, about that plague of mine, another time.
However, I knew I should go and should not pay him his wages.
That night I had the most hideous dreams. No wonder; all the evening I had been oppressed by memories of my miserable days at school, and I could not shake them off. I was sent to the school by distant relations, upon whom I was dependent and of whom I have heard nothing since—they sent me there a forlorn, silent boy, already crushed by their reproaches, already troubled by doubt, and looking with savage distrust at every one. My schoolfellows met me with spiteful and merciless jibes because I was not like any of them. But I could not endure their taunts; I could not give in to them with the ignoble readiness with which they gave in to one another. I hated them from the first, and shut myself away from every one in timid, wounded and disproportionate pride. Their coarseness revolted me. They laughed cynically at my face, at my clumsy figure; and yet what stupid faces they had themselves. In our school the boys’ faces seemed in a special way to degenerate and grow stupider. How many fine-looking boys came to us! In a few years they became repulsive. Even at sixteen I wondered at them morosely; even then I was struck by the pettiness of their thoughts, the stupidity of their pursuits, their games, their conversations. They had no understanding of such essential things, they took no interest in such striking, impressive subjects, that I could not help considering them inferior to myself. It was not wounded vanity that drove me to it, and for God’s sake do not thrust upon me your hackneyed remarks, repeated to nausea, that "I was only a dreamer," while they even then had an understanding of life. They understood nothing, they had no idea of real life, and I swear that that was what made me most indignant with them. On the contrary, the most obvious, striking reality they accepted with fantastic stupidity and even at that time were accustomed to respect success. Everything that was just, but oppressed and looked down upon, they laughed at heartlessly and shamefully. They took rank for intelligence; even at sixteen they were already talking about a snug berth. Of course, a great deal of it was due to their stupidity, to the bad examples with which they had always been surrounded in their childhood and boyhood. They were monstrously depraved. Of course a great deal of that, too, was superficial and an assumption of cynicism; of course there were glimpses of youth and freshness even in their depravity; but even that freshness was not attractive, and showed itself in a certain rakishness. I hated them horribly, though perhaps I was worse than any of them. They repaid me in the same way, and did not conceal their aversion for me. But by then I did not desire their affection: on the contrary I continually longed for their humiliation. To escape from their derision I purposely began to make all the progress I could with my studies and forced my way to the very top. This impressed them. Moreover, they all began by degrees to grasp that I had already read books none of them could read, and understood things (not forming part of our school curriculum) of which they had not even heard. They took a savage and sarcastic view of it, but were morally impressed, especially as the teachers began to notice me on those grounds. The mockery ceased, but the hostility remained, and cold and strained relations became permanent between us. In the end I could not put up with it: with years a craving for society, for friends, developed in me. I attempted to get on friendly terms with some of my schoolfellows; but somehow or other my intimacy with them was always strained and soon ended of itself. Once, indeed, I did have a friend. But I was already a tyrant at heart; I wanted to exercise unbounded sway over him; I tried to instil into him a contempt for his surroundings; I required of him a disdainful and complete break with those surroundings. I frightened him with my passionate affection; I reduced him to tears, to hysterics. He was a simple and devoted soul; but when he devoted himself to me entirely I began to hate him immediately and repulsed him—as though all I needed him for was to win a victory over him, to subjugate him and nothing else. But I could not subjugate all of them; my friend was not at all like them either, he was, in fact, a rare exception. The first thing I did on leaving school was to give up the special job for which I had been destined so as to break all ties, to curse my past and shake the dust from off my feet.... And goodness knows why, after all that, I should go trudging off to Simonov’s!
Early next morning I roused myself and jumped out of bed with excitement, as though it were all about to happen at once. But I believed that some radical change in my life was coming, and would inevitably come that day. Owing to its rarity, perhaps, any external event, however trivial, always made me feel as though some radical change in my life were at hand. I went to the office, however, as usual, but sneaked away home two hours earlier to get ready. The great thing, I thought, is not to be the first to arrive, or they will think I am overjoyed at coming. But there were thousands of such great points to consider, and they all agitated and overwhelmed me. I polished my boots a second time with my own hands; nothing in the world would have induced Apollon to clean them twice a day, as he considered that it was more than his duties required of him. I stole the brushes to clean them from the passage, being careful he should not detect it, for fear of his contempt. Then I minutely examined my clothes and thought that everything looked old, worn and threadbare. I had let myself get too slovenly. My uniform, perhaps, was tidy, but I could not go out to dinner in my uniform. The worst of it was that on the knee of my trousers was a big yellow stain. I had a foreboding that that stain would deprive me of nine-tenths of my personal dignity. I knew, too, that it was very poor to think so. "But this is no time for thinking: now I am in for the real thing," I thought, and my heart sank. I knew, too, perfectly well even then, that I was monstrously exaggerating the facts. But how could I help it? I could not control myself and was already shaking with fever. With despair I pictured to myself how coldly and disdainfully that "scoundrel" Zverkov would meet me; with what dull-witted, invincible contempt the blockhead Trudolyubov would look at me; with what impudent rudeness the insect Ferfitchkin would snigger at me in order to curry favour with Zverkov; how completely Simonov would take it all in, and how he would despise me for the abjectness of my vanity and lack of spirit—and, worst of all, how paltry, unliterary, commonplace it would all be. Of course, the best thing would be not to go at all. But that was most impossible of all: if I feel impelled to do anything, I seem to be pitchforked into it. I should have jeered at myself ever afterwards: "So you funked it, you funked it, you funked the real thing!" On the contrary, I passionately longed to show all that "rabble" that I was by no means such a spiritless creature as I seemed to myself. What is more, even in the acutest paroxysm of this cowardly fever, I dreamed of getting the upper hand, of dominating them, carrying them away, making them like me—if only for my "elevation of thought and unmistakable wit." They would abandon Zverkov, he would sit on one side, silent and ashamed, while I should crush him. Then, perhaps, we would be reconciled and drink to our everlasting friendship; but what was most bitter and most humiliating for me was that I knew even then, knew fully and for certain, that I needed nothing of all this really, that I did not really want to crush, to subdue, to attract them, and that I did not care a straw really for the result, even if I did achieve it. Oh, how I prayed for the day to pass quickly! In unutterable anguish I went to the window, opened the movable pane and looked out into the troubled darkness of the thickly falling wet snow. At last my wretched little clock hissed out five. I seized my hat and trying not to look at Apollon, who had been all day expecting his month’s wages, but in his foolishness was unwilling to be the first to speak about it, I slipped between him and the door and jumping into a high-class sledge, on which I spent my last half rouble, I drove up in grand style to the Hôtel de Paris.
IV
I had been certain the day before that I should be the first to arrive. But it was not a question of being the first to arrive. Not only were they not there, but I had difficulty in finding our room. The table was not laid even. What did it mean? After a good many questions I elicited from the waiters that the dinner had been ordered not for five, but for six o’clock. This was confirmed at the buffet too. I felt really ashamed to go on questioning them. It was only twenty-five minutes past five. If they changed the dinner hour they ought at least to have let me know—that is what the post is for, and not to have put me in an absurd position in my own eyes and ... and even before the waiters. I sat down; the servant began laying the table; I felt even more humiliated when he was present. Towards six o’clock they brought in candles, though there were lamps burning in the room. It had not occurred to the waiter, however, to bring them in at once when I arrived. In the next room two gloomy, angry-looking persons were eating their dinners in silence at two different tables. There was a great deal of noise, even shouting, in a room further away; one could hear the laughter of a crowd of people, and nasty little shrieks in French: there were ladies at the dinner. It was sickening, in fact. I rarely passed more unpleasant moments, so much so that when they did arrive all together punctually at six I was overjoyed to see them, as though they were my deliverers, and even forgot that it was incumbent upon me to show resentment.
Zverkov walked in at the head of them; evidently he was the leading spirit. He and all of them were laughing; but, seeing me, Zverkov drew himself up a little, walked up to me deliberately with a slight, rather jaunty bend from the waist. He shook hands with me in a friendly, but not over-friendly, fashion, with a sort of circumspect courtesy like that of a General, as though in giving me his hand he were warding off something. I had imagined, on the contrary, that on coming in he would at once break into his habitual thin, shrill laugh and fall to making his insipid jokes and witticisms. I had been preparing for them ever since the previous day, but I had not expected such condescension, such high-official courtesy. So, then, he felt himself ineffably superior to me in every respect! If he only meant to insult me by that high-official tone, it would not matter, I thought—I could pay him back for it one way or another. But what if, in reality, without the least desire to be offensive, that sheepshead had a notion in earnest that he was superior to me and could only look at me in a patronizing way? The very supposition made me gasp.
"I was surprised to hear of your desire to join us," he began, lisping and drawling, which was something new. "You and I seem to have seen nothing of one another. You fight shy of us. You shouldn’t. We are not such terrible people as you think. Well, anyway, I am glad to renew our acquaintance."
And he turned carelessly to put down his hat on the window.
"Have you been waiting long?" Trudolyubov inquired.
"I arrived at five o’clock as you told me yesterday," I answered aloud, with an irritability that threatened an explosion.
"Didn’t you let him know that we had changed the hour?" said Trudolyubov to Simonov.
"No, I didn’t. I forgot," the latter replied, with no sign of regret, and without even apologizing to me he went off to order the hors d’œuvres.
"So you’ve been here a whole hour? Oh, poor fellow!" Zverkov cried ironically, for to his notions this was bound to be extremely funny. That rascal Ferfitchkin followed with his nasty little snigger like a puppy yapping. My position struck him, too, as exquisitely ludicrous and embarrassing.
"It isn’t funny at all!" I cried to Ferfitchkin, more and more irritated. "It wasn’t my fault, but other people’s. They neglected to let me know. It was ... it was ... it was simply absurd."
"It’s not only absurd, but something else as well," muttered Trudolyubov, naïvely taking my part. "You are not hard enough upon it. It was simply rudeness—unintentional, of course. And how could Simonov ... h’m!"
"If a trick like that had been played on me," observed Ferfitchkin, "I should...."
"But you should have ordered something for yourself," Zverkov interrupted, "or simply asked for dinner without waiting for us."
"You will allow that I might have done that without your permission," I rapped out. "If I waited, it was...."
"Let us sit down, gentlemen," cried Simonov, coming in. "Everything is ready; I can answer for the champagne; it is capitally frozen.... You see, I did not know your address, where was I to look for you?" he suddenly turned to me, but again he seemed to avoid looking at me. Evidently he had something against me. It must have been what happened yesterday.
All sat down; I did the same. It was a round table. Trudolyubov was on my left, Simonov on my right. Zverkov was sitting opposite, Ferfitchkin next to him, between him and Trudolyubov.
"Tell me, are you ... in a government office?" Zverkov went on attending to me. Seeing that I was embarrassed he seriously thought that he ought to be friendly to me, and, so to speak, cheer me up.
"Does he want me to throw a bottle at his head?" I thought, in a fury. In my novel surroundings I was unnaturally ready to be irritated.
"In the N—— office," I answered jerkily, with my eyes on my plate.
"And ha-ave you a go-od berth? I say, what ma-a-de you leave your original job?"
"What ma-a-de me was that I wanted to leave my original job," I drawled more than he, hardly able to control myself. Ferfitchkin went off into a guffaw. Simonov looked at me ironically. Trudolyubov left off eating and began looking at me with curiosity.
Zverkov winced, but he tried not to notice it.
"And the remuneration?"
"What remuneration?"
"I mean, your sa-a-lary?"
"Why are you cross-examining me?" However, I told him at once what my salary was. I turned horribly red.
"It is not very handsome," Zverkov observed majestically.
"Yes, you can’t afford to dine at cafés on that," Ferfitchkin added insolently.
"To my thinking it’s very poor," Trudolyubov observed gravely.
"And how thin you have grown! How you have changed!" added Zverkov, with a shade of venom in his voice, scanning me and my attire with a sort of insolent compassion.
"Oh, spare his blushes," cried Ferfitchkin, sniggering.
"My dear sir, allow me to tell you I am not blushing," I broke out at last; "do you hear? I am dining here, at this café, at my own expense, not at other people’s—note that, Mr. Ferfitchkin."
"Wha-at? Isn’t every one here dining at his own expense? You would seem to be...." Ferfitchkin flew out at me, turning as red as a lobster, and looking me in the face with fury.
"Tha-at," I answered, feeling I had gone too far, "and I imagine it would be better to talk of something more intelligent."
"You intend to show off your intelligence, I suppose?"
"Don’t disturb yourself, that would be quite out of place here."
"Why are you clacking away like that, my good sir, eh? Have you gone out of your wits in your office?"
"Enough, gentlemen, enough!" Zverkov cried, authoritatively.
"How stupid it is!" muttered Simonov.
"It really is stupid. We have met here, a company of friends, for a farewell dinner to a comrade and you carry on an altercation," said Trudolyubov, rudely addressing himself to me alone. "You invited yourself to join us, so don’t disturb the general harmony."
"Enough, enough!" cried Zverkov. "Give over, gentlemen, it’s out of place. Better let me tell you how I nearly got married the day before yesterday...."
And then followed a burlesque narrative of how this gentleman had almost been married two days before. There was not a word about the marriage, however, but the story was adorned with generals, colonels and Kammer-Junkers, while Zverkov almost took the lead among them. It was greeted with approving laughter; Ferfitchkin positively squealed.
No one paid any attention to me, and I sat crushed and humiliated.
"Good Heavens, these are not the people for me!" I thought. "And what a fool I have made of myself before them! I let Ferfitchkin go too far, though. The brutes imagine they are doing me an honour in letting me sit down with them. They don’t understand that it’s an honour to them and not to me! I’ve grown thinner! My clothes! Oh, damn my trousers! Zverkov noticed the yellow stain on the knee as soon as he came in.... But what’s the use! I must get up at once, this very minute, take my hat and simply go without a word ... with contempt! And to-morrow I can send a challenge. The scoundrels! As though I cared about the seven roubles. They may think.... Damn it! I don’t care about the seven roubles. I’ll go this minute!"
Of course I remained. I drank sherry and Lafitte by the glassful in my discomfiture. Being unaccustomed to it, I was quickly affected. My annoyance increased as the wine went to my head. I longed all at once to insult them all in a most flagrant manner and then go away. To seize the moment and show what I could do, so that they would say, "He’s clever, though he is absurd," and ... and ... in fact, damn them all!
I scanned them all insolently with my drowsy eyes. But they seemed to have forgotten me altogether. They were noisy, vociferous, cheerful. Zverkov was talking all the time. I began listening. Zverkov was talking of some exuberant lady whom he had at last led on to declaring her love (of course, he was lying like a horse), and how he had been helped in this affair by an intimate friend of his, a Prince Kolya, an officer in the hussars, who had three thousand serfs.
"And yet this Kolya, who has three thousand serfs, has not put in an appearance here to-night to see you off," I cut in suddenly.
For a minute every one was silent. "You are drunk already." Trudolyubov deigned to notice me at last, glancing contemptuously in my direction. Zverkov, without a word, examined me as though I were an insect. I dropped my eyes. Simonov made haste to fill up the glasses with champagne.
Trudolyubov raised his glass, as did every one else but me.
"Your health and good luck on the journey!" he cried to Zverkov. "To old times, to our future, hurrah!"
They all tossed off their glasses, and crowded round Zverkov to kiss him. I did not move; my full glass stood untouched before me.
"Why, aren’t you going to drink it?" roared Trudolyubov, losing patience and turning menacingly to me.
"I want to make a speech separately, on my own account ... and then I’ll drink it, Mr. Trudolyubov."
"Spiteful brute!" muttered Simonov. I drew myself up in my chair and feverishly seized my glass, prepared for something extraordinary, though I did not know myself precisely what I was going to say.
"Silence!" cried Ferfitchkin. "Now for a display of wit!"
Zverkov waited very gravely, knowing what was coming.
"Mr. Lieutenant Zverkov," I began, "let me tell you that I hate phrases, phrase-mongers and men in corsets ... that’s the first point, and there is a second one to follow it."
There was a general stir.
"The second point is: I hate ribaldry and ribald talkers. Especially ribald talkers! The third point: I love justice, truth and honesty." I went on almost mechanically, for I was beginning to shiver with horror myself and had no idea how I came to be talking like this. "I love thought, Monsieur Zverkov; I love true comradeship, on an equal footing and not.... H’m ... I love.... But, however, why not? I will drink your health, too, Mr. Zverkov. Seduce the Circassian girls, shoot the enemies of the fatherland and ... and ... to your health, Monsieur Zverkov!"
Zverkov got up from his seat, bowed to me and said:
"I am very much obliged to you." He was frightfully offended and turned pale.
"Damn the fellow!" roared Trudolyubov, bringing his fist down on the table.
"Well, he wants a punch in the face for that," squealed Ferfitchkin.
"We ought to turn him out," muttered Simonov.
"Not a word, gentlemen, not a movement!" cried Zverkov solemnly, checking the general indignation. "I thank you all, but I can show him for myself how much value I attach to his words."
"Mr. Ferfitchkin, you will give me satisfaction to-morrow for your words just now!" I said aloud, turning with dignity to Ferfitchkin.
"A duel, you mean? Certainly," he answered. But probably I was so ridiculous as I challenged him and it was so out of keeping with my appearance that everyone, including Ferfitchkin, was prostrate with laughter.
"Yes, let him alone, of course! He is quite drunk," Trudolyubov said with disgust.
"I shall never forgive myself for letting him join us," Simonov muttered again.
"Now is the time to throw a bottle at their heads," I thought to myself. I picked up the bottle ... and filled my glass.... "No, I’d better sit on to the end," I went on thinking; "you would be pleased, my friends if I went away. Nothing will induce me to go. I’ll go on sitting here and drinking to the end, on purpose, as a sign that I don’t think you of the slightest consequence. I will go on sitting and drinking, because this is a public-house and I paid my entrance money. I’ll sit here and drink, for I look upon you as so many pawns, as inanimate pawns. I’ll sit here and drink ... and sing if I want to, yes, sing, for I have the right to ... to sing.... H’m!"
But I did not sing. I simply tried not to look at any of them. I assumed most unconcerned attitudes and waited with impatience for them to speak first. But alas, they did not address me! And oh, how I wished, how I wished at that moment to be reconciled to them! It struck eight, at last nine. They moved from the table to the sofa. Zverkov stretched himself on a lounge and put one foot on a round table. Wine was brought there. He did, as a fact, order three bottles on his own account. I, of course, was not invited to join them. They all sat round him on the sofa. They listened to him, almost with reverence. It was evident that they were fond of him. "What for? What for?" I wondered. From time to time they were moved to drunken enthusiasm and kissed each other. They talked of the Caucasus, of the nature of true passion, of snug berths in the service, of the income of an hussar called Podharzhevsky, whom none of them knew personally, and rejoiced in the largeness of it, of the extraordinary grace and beauty of a Princess D., whom none of them had ever seen; then it came to Shakespeare’s being immortal.
I smiled contemptuously and walked up and down the other side of the room, opposite the sofa, from the table to the stove and back again. I tried my very utmost to show them that I could do without them, and yet I purposely made a noise with my boots, thumping with my heels. But it was all in vain. They paid no attention. I had the patience to walk up and down in front of them from eight o’clock till eleven, in the same place, from the table to the stove and back again. "I walk up and down to please myself and no one can prevent me." The waiter who came into the room stopped, from time to time, to look at me. I was somewhat giddy from turning round so often; at moments it seemed to me that I was in delirium. During those three hours I was three times soaked with sweat and dry again. At times, with an intense, acute pang I was stabbed to the heart by the thought that ten years, twenty years, forty years would pass, and that even in forty years I would remember with loathing and humiliation those filthiest, most ludicrous, and most awful moments of my life. No one could have gone out of his way to degrade himself more shamelessly, and I fully realized it, fully, and yet I went on pacing up and down from the table to the stove. "Oh, if you only knew what thoughts and feelings I am capable of, how cultured I am!" I thought at moments, mentally addressing the sofa on which my enemies were sitting. But my enemies behaved as though I were not in the room. Once—only once—they turned towards me, just when Zverkov was talking about Shakespeare, and I suddenly gave a contemptuous laugh. I laughed in such an affected and disgusting way that they all at once broke off their conversation, and silently and gravely for two minutes watched me walking up and down from the table to the stove, taking no notice of them. But nothing came of it: they said nothing, and two minutes later they ceased to notice me again. It struck eleven.
"Friends," cried Zverkov getting up from the sofa, "let us all be off now, there!"
"Of course, of course," the others assented. I turned sharply to Zverkov. I was so harassed, so exhausted, that I would have cut my throat to put an end to it. I was in a fever; my hair, soaked with perspiration, stuck to my forehead and temples.
"Zverkov, I beg your pardon," I said abruptly and resolutely. "Ferfitchkin, yours too, and every one’s, every one’s: I have insulted you all!"
"Aha! A duel is not in your line, old man," Ferfitchkin hissed venomously.
It sent a sharp pang to my heart.
"No, it’s not the duel I am afraid of, Ferfitchkin! I am ready to fight you to-morrow, after we are reconciled. I insist upon it, in fact, and you cannot refuse. I want to show you that I am not afraid of a duel. You shall fire first and I shall fire into the air."
"He is comforting himself," said Simonov.
"He’s simply raving," said Trudolyubov.
"But let us pass. Why are you barring our way? What do you want?" Zverkov answered disdainfully.
They were all flushed; their eyes were bright: they had been drinking heavily.
"I ask for your friendship, Zverkov; I insulted you, but...."
"Insulted? You insulted me? Understand, sir, that you never, under any circumstances, could possibly insult me."
"And that’s enough for you. Out of the way!" concluded Trudolyubov.
"Olympia is mine, friends, that’s agreed!" cried Zverkov.
"We won’t dispute your right, we won’t dispute your right," the others answered, laughing.
I stood as though spat upon. The party went noisily out of the room. Trudolyubov struck up some stupid song. Simonov remained behind for a moment to tip the waiters. I suddenly went up to him.
"Simonov! give me six roubles!" I said, with desperate resolution.
He looked at me in extreme amazement, with vacant eyes. He, too, was drunk.
"You don’t mean you are coming with us?"
"Yes."
"I’ve no money," he snapped out, and with a scornful laugh he went out of the room.
I clutched at his overcoat. It was a nightmare.
"Simonov, I saw you had money. Why do you refuse me? Am I a scoundrel? Beware of refusing me: if you knew, if you knew why I am asking! My whole future, my whole plans depend upon it!"
Simonov pulled out the money and almost flung it at me.
"Take it, if you have no sense of shame!" he pronounced pitilessly, and ran to overtake them.
I was left for a moment alone. Disorder, the remains of dinner, a broken wine-glass on the floor, spilt wine, cigarette ends, fumes of drink and delirium in my brain, an agonizing misery in my heart and finally the waiter, who had seen and heard all and was looking inquisitively into my face.
"I am going there!" I cried. "Either they shall all go down on their knees to beg for my friendship, or I will give Zverkov a slap in the face!"
V
"So this is it, this is it at last—contact with real life," I muttered as I ran headlong downstairs. "This is very different from the Pope’s leaving Rome and going to Brazil, very different from the ball on Lake Como!"
"You are a scoundrel," a thought flashed through my mind, "if you laugh at this now."
"No matter!" I cried, answering myself. "Now everything is lost!"
There was no trace to be seen of them, but that made no difference—I knew where they had gone.
At the steps was standing a solitary night sledge-driver in a rough peasant coat, powdered over with the still falling, wet, and as it were warm, snow. It was hot and steamy. The little shaggy piebald horse was also covered with snow and coughing, I remember that very well. I made a rush for the roughly made sledge; but as soon as I raised my foot to get into it, the recollection of how Simonov had just given me six roubles seemed to double me up and I tumbled into the sledge like a sack.
"No, I must do a great deal to make up for all that," I cried. "But I will make up for it or perish on the spot this very night. Start!"
We set off. There was a perfect whirl in my head.
"They won’t go down on their knees to beg for my friendship. That is a mirage, cheap mirage, revolting, romantic and fantastical—that’s another ball on Lake Como. And so I am bound to slap Zverkov’s face! It is my duty to. And so it is settled; I am flying to give him a slap in the face. Hurry up!"
The driver tugged at the reins.
"As soon as I go in I’ll give it him. Ought I before giving him the slap to say a few words by way of preface? No. I’ll simply go in and give it him. They will all be sitting in the drawing-room, and he with Olympia on the sofa. That damned Olympia! She laughed at my looks on one occasion and refused me. I’ll pull Olympia’s hair, pull Zverkov’s ears! No, better one ear, and pull him by it round the room. Maybe they will all begin beating me and will kick me out. That’s most likely, indeed. No matter! Anyway, I shall first slap him; the initiative will be mine; and by the laws of honour that is everything: he will be branded and cannot wipe off the slap by any blows, by nothing but a duel. He will be forced to fight. And let them beat me now. Let them, the ungrateful wretches! Trudolyubov will beat me hardest, he is so strong; Ferfitchkin will be sure to catch hold sideways and tug at my hair. But no matter, no matter! That’s what I am going for. The blockheads will be forced at last to see the tragedy of it all! When they drag me to the door I shall call out to them that in reality they are not worth my little finger. Get on, driver, get on!" I cried to the driver. He started and flicked his whip, I shouted so savagely.
"We shall fight at daybreak, that’s a settled thing. I’ve done with the office. Ferfitchkin made a joke about it just now. But where can I get pistols? Nonsense! I’ll get my salary in advance and buy them. And powder, and bullets? That’s the second’s business. And how can it all be done by daybreak? And where am I to get a second? I have no friends. Nonsense!" I cried, lashing myself up more and more. "It’s of no consequence! the first person I meet in the street is bound to be my second, just as he would be bound to pull a drowning man out of water. The most eccentric things may happen. Even if I were to ask the director himself to be my second to-morrow, he would be bound to consent, if only from a feeling of chivalry, and to keep the secret! Anton Antonitch...."
The fact is, that at that very minute the disgusting absurdity of my plan and the other side of the question was clearer and more vivid to my imagination than it could be to any one on earth. But....
"Get on, driver, get on, you rascal, get on!"
"Ugh, sir!" said the son of toil.
Cold shivers suddenly ran down me. Wouldn’t it be better ... to go straight home? My God, my God! Why did I invite myself to this dinner yesterday? But no, it’s impossible. And my walking up and down for three hours from the table to the stove? No, they, they and no one else must pay for my walking up and down! They must wipe out this dishonour! Drive on!
And what if they give me into custody? They won’t dare! They’ll be afraid of the scandal. And what if Zverkov is so contemptuous that he refuses to fight a duel? He is sure to; but in that case I’ll show them ... I will turn up at the posting station when he is setting off to-morrow, I’ll catch him by the leg, I’ll pull off his coat when he gets into the carriage. I’ll get my teeth into his hand, I’ll bite him. "See what lengths you can drive a desperate man to!" He may hit me on the head and they may belabour me from behind. I will shout to the assembled multitude: "Look at this young puppy who is driving off to captivate the Circassian girls after letting me spit in his face!"
Of course, after that everything will be over! The office will have vanished off the face of the earth. I shall be arrested, I shall be tried, I shall be dismissed from the service, thrown in prison, sent to Siberia. Never mind! In fifteen years when they let me out of prison I will trudge off to him, a beggar, in rags. I shall find him in some provincial town. He will be married and happy. He will have a grown-up daughter.... I shall say to him: "Look, monster, at my hollow cheeks and my rags! I’ve lost everything—my career, my happiness, art, science, the woman I loved, and all through you. Here are pistols. I have come to discharge my pistol and ... and I ... forgive you. Then I shall fire into the air and he will hear nothing more of me...."
I was actually on the point of tears, though I knew perfectly well at that moment that all this was out of Pushkin’s Silvio and Lermontov’s Masquerade [18]. And all at once I felt horribly ashamed, so ashamed that I stopped the horse, got out of the sledge, and stood still in the snow in the middle of the street. The driver gazed at me, sighing and astonished.
What was I to do? I could not go on there—it was evidently stupid, and I could not leave things as they were, because that would seem as though.... Heavens, how could I leave things! And after such insults! "No!" I cried, throwing myself into the sledge again. "It is ordained! It is fate! Drive on, drive on!"
And in my impatience I punched the sledge-driver on the back of the neck.
"What are you up to? What are you hitting me for?" the peasant shouted, but he whipped up his nag so that it began kicking.
The wet snow was falling in big flakes; I unbuttoned myself, regardless of it. I forgot everything else, for I had finally decided on the slap, and felt with horror that it was going to happen now, at once, and that no force could stop it. The deserted street lamps gleamed sullenly in the snowy darkness like torches at a funeral. The snow drifted under my great-coat, under my coat, under my cravat, and melted there. I did not wrap myself up—all was lost, anyway.
At last we arrived. I jumped out, almost unconscious, ran up the steps and began knocking and kicking at the door. I felt fearfully weak, particularly in my legs and my knees. The door was opened quickly as though they knew I was coming. As a fact, Simonov had warned them that perhaps another gentleman would arrive, and this was a place in which one had to give notice and to observe certain precautions. It was one of those "millinery establishments" which were abolished by the police a good time ago. By day it really was a shop; but at night, if one had an introduction, one might visit it for other purposes.
I walked rapidly through the dark shop into the familiar drawing-room, where there was only one candle burning, and stood still in amazement: there was no one there. "Where are they?" I asked somebody. But by now, of course, they had separated. Before me was standing a person with a stupid smile, the "madam" herself, who had seen me before. A minute later a door opened and another person came in.
Taking no notice of anything I strode about the room, and, I believe, I talked to myself. I felt as though I had been saved from death and was conscious of this, joyfully, all over: I should have given that slap, I should certainly, certainly have given it! But now they were not here and ... everything had vanished and changed! I looked round. I could not realize my condition yet. I looked mechanically at the girl who had come in: and had a glimpse of a fresh, young, rather pale face, with straight, dark eyebrows, and with grave, as it were wondering, eyes that attracted me at once; I should have hated her if she had been smiling. I began looking at her more intently and, as it were, with effort. I had not fully collected my thoughts. There was something simple and good-natured in her face, but something strangely grave. I am sure that this stood in her way here, and no one of those fools had noticed her. She could not, however, have been called a beauty, though she was tall, strong-looking, and well built. She was very simply dressed. Something loathsome stirred within me. I went straight up to her.
I chanced to look into the glass. My harassed face struck me as revolting in the extreme, pale, angry, abject, with dishevelled hair. "No matter, I am glad of it," I thought; "I am glad that I shall seem repulsive to her; I like that."
VI
... Somewhere behind a screen a clock began wheezing, as though oppressed by something, as though some one were strangling it. After an unnaturally prolonged wheezing there followed a shrill, nasty, and as it were unexpectedly rapid, chime—as though some one were suddenly jumping forward. It struck two. I woke up, though I had indeed not been asleep but lying half conscious.
It was almost completely dark in the narrow, cramped, low-pitched room, cumbered up with an enormous wardrobe and piles of cardboard boxes and all sorts of frippery and litter. The candle end that had been burning on the table was going out and gave a faint flicker from time to time. In a few minutes there would be complete darkness.
I was not long in coming to myself; everything came back to my mind at once, without an effort, as though it had been in ambush to pounce upon me again. And, indeed, even while I was unconscious a point seemed continually to remain in my memory unforgotten, and round it my dreams moved drearily. But strange to say, everything that had happened to me in that day seemed to me now, on waking, to be in the far, far away past, as though I had long, long ago lived all that down.
My head was full of fumes. Something seemed to be hovering over me, rousing me, exciting me, and making me restless. Misery and spite seemed surging up in me again and seeking an outlet. Suddenly I saw beside me two wide open eyes scrutinizing me curiously and persistently. The look in those eyes was coldly detached, sullen, as it were utterly remote; it weighed upon me.
A grim idea came into my brain and passed all over my body, as a horrible sensation, such as one feels when one goes into a damp and mouldy cellar. There was something unnatural in those two eyes, beginning to look at me only now. I recalled, too, that during those two hours I had not said a single word to this creature, and had, in fact, considered it utterly superfluous; in fact, the silence had for some reason gratified me. Now I suddenly realized vividly the hideous idea—revolting as a spider—of vice, which, without love, grossly and shamelessly begins with that in which true love finds its consummation. For a long time we gazed at each other like that, but she did not drop her eyes before mine and her expression did not change, so that at last I felt uncomfortable.
"What is your name?" I asked abruptly, to put an end to it.
"Liza," she answered almost in a whisper, but somehow far from graciously, and she turned her eyes away.
I was silent.
"What weather! The snow ... it’s disgusting!" I said, almost to myself, putting my arm under my head despondently, and gazing at the ceiling.
She made no answer. This was horrible.
"Have you always lived in Petersburg?" I asked a minute later, almost angrily, turning my head slightly towards her.
"No."
"Where do you come from?"
"From Riga," she answered reluctantly.
"Are you a German?"
"No, Russian."
"Have you been here long?"
"Where?"
"In this house?"
"A fortnight."
She spoke more and more jerkily. The candle went out; I could no longer distinguish her face.
"Have you a father and mother?"
"Yes ... no ... I have."
"Where are they?"
"There ... in Riga."
"What are they?"
"Oh, nothing."
"Nothing? Why, what class are they?"
"Tradespeople."
"Have you always lived with them?"
"Yes."
"How old are you?"
"Twenty."
"Why did you leave them?"
"Oh, for no reason."
That answer meant "Let me alone; I feel sick, sad."
We were silent.
God knows why I did not go away. I felt myself more and more sick and dreary. The images of the previous day began of themselves, apart from my will, flitting through my memory in confusion. I suddenly recalled something I had seen that morning when, full of anxious thoughts, I was hurrying to the office.
"I saw them carrying a coffin out yesterday and they nearly dropped it," I suddenly said aloud, not that I desired to open the conversation, but as it were by accident.
"A coffin?"
"Yes, in the Haymarket; they were bringing it up out of a cellar."
"From a cellar?"
"Not from a cellar, but from a basement. Oh, you know ... down below ... from a house of ill-fame. It was filthy all round.... Egg-shells, litter ... a stench. It was loathsome."
Silence.
"A nasty day to be buried," I began, simply to avoid being silent.
"Nasty, in what way?"
"The snow, the wet." (I yawned.)
"It makes no difference," she said suddenly, after a brief silence.
"No, it’s horrid." (I yawned again.) "The gravediggers must have sworn at getting drenched by the snow. And there must have been water in the grave."
"Why water in the grave?" she asked, with a sort of curiosity, but speaking even more harshly and abruptly than before.
I suddenly began to feel provoked.
"Why, there must have been water at the bottom a foot deep. You can’t dig a dry grave in Volkovo Cemetery."
"Why?"
"Why? Why, the place is waterlogged. It’s a regular marsh. So they bury them in water. I’ve seen it myself ... many times."
(I had never seen it once, indeed I had never been in Volkovo, and had only heard stories of it.)
"Do you mean to say, you don’t mind how you die?"
"But why should I die?" she answered, as though defending herself.
"Why, some day you will die, and you will die just the same as that dead woman. She was ... a girl like you. She died of consumption."
"A wench would have died in hospital...." (She knows all about it already: she said "wench," not "girl.")
"She was in debt to her madam," I retorted, more and more provoked by the discussion; "and went on earning money for her up to the end, though she was in consumption. Some sledge-drivers standing by were talking about her to some soldiers and telling them so. No doubt they knew her. They were laughing. They were going to meet in a pot-house to drink to her memory."
A great deal of this was my invention. Silence followed, profound silence. She did not stir.
"And is it better to die in a hospital?"
"Isn’t it just the same? Besides, why should I die?" she added irritably.
"If not now, a little later."
"Why a little later?"
"Why, indeed? Now you are young, pretty, fresh, you fetch a high price. But after another year of this life you will be very different—you will go off."
"In a year?"
"Anyway, in a year you will be worth less," I continued malignantly. "You will go from here to something lower, another house; a year later—to a third, lower and lower, and in seven years you will come to a basement in the Haymarket. That will be if you were lucky. But it would be much worse if you got some disease, consumption, say ... and caught a chill, or something or other. It’s not easy to get over an illness in your way of life. If you catch anything you may not get rid of it. And so you would die."
"Oh, well, then I shall die," she answered, quite vindictively, and she made a quick movement.
"But one is sorry."
"Sorry for whom?"
"Sorry for life."
Silence.
"Have you been engaged to be married? Eh?"
"What’s that to you?"
"Oh, I am not cross-examining you. It’s nothing to me. Why are you so cross? Of course you may have had your own troubles. What is it to me? It’s simply that I felt sorry."
"Sorry for whom?"
"Sorry for you."
"No need," she whispered hardly audibly, and again made a faint movement.
That incensed me at once. What! I was so gentle with her, and she....
"Why, do you think that you are on the right path?"
"I don’t think anything."
"That’s what’s wrong, that you don’t think. Realize it while there is still time. There still is time. You are still young, good-looking; you might love, be married, be happy...."
"Not all married women are happy," she snapped out in the rude abrupt tone she had used at first.
"Not all, of course, but anyway it is much better than the life here. Infinitely better. Besides, with love one can live even without happiness. Even in sorrow life is sweet; life is sweet, however one lives. But here what is there but ... foulness. Phew!"
I turned away with disgust; I was no longer reasoning coldly. I began to feel myself what I was saying and warmed to the subject. I was already longing to expound the cherished ideas I had brooded over in my corner. Something suddenly flared up in me. An object had appeared before me.
"Never mind my being here, I am not an example for you. I am, perhaps, worse than you are. I was drunk when I came here, though," I hastened, however, to say in self-defence. "Besides, a man is no example for a woman. It’s a different thing. I may degrade and defile myself, but I am not any one’s slave. I come and go, and that’s an end of it. I shake it off, and I am a different man. But you are a slave from the start. Yes, a slave! You give up everything, your whole freedom. If you want to break your chains afterwards, you won’t be able to: you will be more and more fast in the snares. It is an accursed bondage. I know it. I won’t speak of anything else, maybe you won’t understand, but tell me: no doubt you are in debt to your madam? There, you see," I added, though she made no answer, but only listened in silence, entirely absorbed, "that’s a bondage for you! You will never buy your freedom. They will see to that. It’s like selling your soul to the devil.... And besides ... perhaps I, too, am just as unlucky—how do you know—and wallow in the mud on purpose, out of misery? You know, men take to drink from grief; well, maybe I am here from grief. Come, tell me, what is there good here? Here you and I ... came together ... just now and did not say one word to one another all the time, and it was only afterwards you began staring at me like a wild creature, and I at you. Is that loving? Is that how one human being should meet another? It’s hideous, that’s what it is!"
"Yes!" she assented sharply and hurriedly.
I was positively astounded by the promptitude of this "Yes." So the same thought may have been straying through her mind when she was staring at me just before. So she, too, was capable of certain thoughts? "Damn it all, this was interesting, this was a point of likeness!" I thought, almost rubbing my hands. And indeed it’s easy to turn a young soul like that!
It was the exercise of my power that attracted me most.
She turned her head nearer to me, and it seemed to me in the darkness that she propped herself on her arm. Perhaps she was scrutinizing me. How I regretted that I could not see her eyes. I heard her deep breathing.
"Why have you come here?" I asked her, with a note of authority already in my voice.
"Oh, I don’t know."
"But how nice it would be to be living in your father’s house! It’s warm and free; you have a home of your own."
"But what if it’s worse than this?"
"I must take the right tone," flashed through my mind. "I may not get far with sentimentality." But it was only a momentary thought. I swear she really did interest me. Besides, I was exhausted and moody. And cunning so easily goes hand-in-hand with feeling.
"Who denies it!" I hastened to answer. "Anything may happen. I am convinced that some one has wronged you, and that you are more sinned against than sinning. Of course, I know nothing of your story, but it’s not likely a girl like you has come here of her own inclination...."
"A girl like me?" she whispered, hardly audibly; but I heard it.
Damn it all, I was flattering her. That was horrid. But perhaps it was a good thing.... She was silent.
"See, Liza, I will tell you about myself. If I had had a home from childhood, I shouldn’t be what I am now. I often think that. However bad it may be at home, anyway they are your father and mother, and not enemies, strangers. Once a year at least, they’ll show their love of you. Anyway, you know you are at home. I grew up without a home; and perhaps that’s why I’ve turned so ... unfeeling."
I waited again. "Perhaps she doesn’t understand," I thought, "and, indeed, it is absurd—it’s moralizing."
"If I were a father and had a daughter, I believe I should love my daughter more than my sons, really," I began indirectly, as though talking of something else, to distract her attention. I must confess I blushed.
"Why so?" she asked.
Ah! so she was listening!
"I don’t know, Liza. I knew a father who was a stern, austere man, but used to go down on his knees to his daughter, used to kiss her hands, her feet, he couldn’t make enough of her, really. When she danced at parties he used to stand for five hours at a stretch, gazing at her. He was mad over her: I understand that! She would fall asleep tired at night, and he would wake to kiss her in her sleep and make the sign of the cross over her. He would go about in a dirty old coat, he was stingy to every one else, but would spend his last penny for her, giving her expensive presents, and it was his greatest delight when she was pleased with what he gave her. Fathers always love their daughters more than the mothers do. Some girls live happily at home! And I believe I should never let my daughters marry."
"What next?" she said, with a faint smile.
"I should be jealous, I really should. To think that she should kiss any one else! That she should love a stranger more than her father! It’s painful to imagine it. Of course, that’s all nonsense, of course every father would be reasonable at last. But I believe before I should let her marry, I should worry myself to death; I should find fault with all her suitors. But I should end by letting her marry whom she herself loved. The one whom the daughter loves always seems the worst to the father, you know. That is always so. So many family troubles come from that."
"Some are glad to sell their daughters, rather than marrying them honourably."
Ah, so that was it!
"Such a thing, Liza, happens in those accursed families in which there is neither love nor God," I retorted warmly, "and where there is no love, there is no sense either. There are such families, it’s true, but I am not speaking of them. You must have seen wickedness in your own family, if you talk like that. Truly, you must have been unlucky. H’m! ... that sort of thing mostly comes about through poverty."
"And is it any better with the gentry? Even among the poor, honest people live happily."
"H’m ... yes. Perhaps. Another thing, Liza, man is fond of reckoning up his troubles, but does not count his joys. If he counted them up as he ought, he would see that every lot has enough happiness provided for it. And what if all goes well with the family, if the blessing of God is upon it, if the husband is a good one, loves you, cherishes you, never leaves you! There is happiness in such a family! Even sometimes there is happiness in the midst of sorrow; and indeed sorrow is everywhere. If you marry you will find out for yourself. But think of the first years of married life with one you love: what happiness, what happiness there sometimes is in it! And indeed it’s the ordinary thing. In those early days even quarrels with one’s husband end happily. Some women get up quarrels with their husbands just because they love them. Indeed, I knew a woman like that: she seemed to say that because she loved him, she would torment him and make him feel it. You know that you may torment a man on purpose through love. Women are particularly given to that, thinking to themselves ’I will love him so, I will make so much of him afterwards, that it’s no sin to torment him a little now.’ And all in the house rejoice in the sight of you, and you are happy and gay and peaceful and honourable.... Then there are some women who are jealous. If he went off anywhere—I knew one such woman, she couldn’t restrain herself, but would jump up at night and run off on the sly to find out where he was, whether he was with some other woman. That’s a pity. And the woman knows herself it’s wrong, and her heart fails her and she suffers, but she loves—it’s all through love. And how sweet it is to make it up after quarrels, to own herself in the wrong or to forgive him! And they are both so happy all at once—as though they had met anew, been married over again; as though their love had begun afresh. And no one, no one should know what passes between husband and wife if they love one another. And whatever quarrels there may be between them they ought not to call in their own mother to judge between them and tell tales of one another. They are their own judges. Love is a holy mystery and ought to be hidden from all other eyes, whatever happens. That makes it holier and better. They respect one another more, and much is built on respect. And if once there has been love, if they have been married for love, why should love pass away? Surely one can keep it! It is rare that one cannot keep it. And if the husband is kind and straightforward, why should not love last? The first phase of married love will pass, it is true, but then there will come a love that is better still. Then there will be the union of souls, they will have everything in common, there will be no secrets between them. And once they have children, the most difficult times will seem to them happy, so long as there is love and courage. Even toil will be a joy, you may deny yourself bread for your children and even that will be a joy. They will love you for it afterwards; so you are laying by for your future. As the children grow up you feel that you are an example, a support for them; that even after you die your children will always keep your thoughts and feelings, because they have received them from you, they will take on your semblance and likeness. So you see this is a great duty. How can it fail to draw the father and mother nearer? People say it’s a trial to have children. Who says that? It is heavenly happiness! Are you fond of little children, Liza? I am awfully fond of them. You know—a little rosy baby boy at your bosom, and what husband’s heart is not touched, seeing his wife nursing his child! A plump little rosy baby, sprawling and snuggling, chubby little hands and feet, clean tiny little nails, so tiny that it makes one laugh to look at them; eyes that look as if they understand everything. And while it sucks it clutches at your bosom with its little hand, plays. When its father comes up, the child tears itself away from the bosom, flings itself back, looks at its father, laughs, as though it were fearfully funny and falls to sucking again. Or it will bite its mother’s breast when its little teeth are coming, while it looks sideways at her with its little eyes as though to say, ’Look, I am biting!’ Is not all that happiness when they are the three together, husband, wife and child? One can forgive a great deal for the sake of such moments. Yes, Liza, one must first learn to live oneself before one blames others!"
"It’s by pictures, pictures like that one must get at you," I thought to myself, though I did speak with real feeling, and all at once I flushed crimson. "What if she were suddenly to burst out laughing, what should I do then?" That idea drove me to fury. Towards the end of my speech I really was excited, and now my vanity was somehow wounded. The silence continued. I almost nudged her.
"Why are you——" she began and stopped. But I understood: there was a quiver of something different in her voice, not abrupt, harsh and unyielding as before, but something soft and shamefaced, so shamefaced that I suddenly felt ashamed and guilty.
"What?" I asked, with tender curiosity.
"Why, you...."
"What?"
"Why, you ... speak somehow like a book," she said, and again there was a note of irony in her voice.
That remark sent a pang to my heart. It was not what I was expecting.
I did not understand that she was hiding her feelings under irony, that this is usually the last refuge of modest and chaste-souled people when the privacy of their soul is coarsely and intrusively invaded, and that their pride makes them refuse to surrender till the last moment and shrink from giving expression to their feelings before you. I ought to have guessed the truth from the timidity with which she had repeatedly approached her sarcasm, only bringing herself to utter it at last with an effort. But I did not guess, and an evil feeling took possession of me.
"Wait a bit!" I thought.
VII
"Oh, hush, Liza! How can you talk about being like a book, when it makes even me, an outsider, feel sick? Though I don’t look at it as an outsider, for, indeed, it touches me to the heart.... Is it possible, is it possible that you do not feel sick at being here yourself? Evidently habit does wonders! God knows what habit can do with any one. Can you seriously think that you will never grow old, that you will always be good-looking, and that they will keep you here for ever and ever? I say nothing of the loathsomeness of the life here.... Though let me tell you this about it—about your present life, I mean; here though you are young now, attractive, nice, with soul and feeling, yet you know as soon as I came to myself just now I felt at once sick at being here with you! One can only come here when one is drunk. But if you were anywhere else, living as good people live, I should perhaps be more than attracted by you, should fall in love with you, should be glad of a look from you, let alone a word; I should hang about your door, should go down on my knees to you, should look upon you as my betrothed and think it an honour to be allowed to. I should not dare to have an impure thought about you. But here, you see, I know that I have only to whistle and you have to come with me whether you like it or not. I don’t consult your wishes, but you mine. The lowest labourer hires himself as a workman but he doesn’t make a slave of himself altogether; besides, he knows that he will be free again presently. But when are you free? Only think what you are giving up here? What is it you are making a slave of? It is your soul, together with your body; you are selling your soul which you have no right to dispose of! You give your love to be outraged by every drunkard! Love! But that’s everything, you know, it’s a priceless diamond, it’s a maiden’s treasure, love—why, a man would be ready to give his soul, to face death to gain that love. But how much is your love worth now? You are sold, all of you, body and soul, and there is no need to strive for love when you can have everything without love. And you know there is no greater insult to a girl than that, do you understand? To be sure, I have heard that they comfort you, poor fools, they let you have lovers of your own here. But you know that’s simply a farce, that’s simply a sham, it’s just laughing at you, and you are taken in by it! Why, do you suppose he really loves you, that lover of yours? I don’t believe it. How can he love you when he knows you may be called away from him any minute? He would be a low fellow if he did! Will he have a grain of respect for you? What have you in common with him? He laughs at you and robs you—that is all his love amounts to! You are lucky if he does not beat you. Very likely he does beat you, too. Ask him, if you have got one, whether he will marry you. He will laugh in your face, if he doesn’t spit in it or give you a blow—though maybe he is not worth a bad halfpenny himself. And for what have you ruined your life, if you come to think of it? For the coffee they give you to drink and the plentiful meals? But with what object are they feeding you up? An honest girl couldn’t swallow the food, for she would know what she was being fed for. You are in debt here, and, of course, you will always be in debt, and you will go on in debt to the end, till the visitors here begin to scorn you. And that will soon happen, don’t rely upon your youth—all that flies by express train here, you know. You will be kicked out. And not simply kicked out; long before that she’ll begin nagging at you, scolding you, abusing you, as though you had not sacrificed your health for her, had not thrown away your youth and your soul for her benefit, but as though you had ruined her, beggared her, robbed her. And don’t expect any one to take your part: the others, your companions, will attack you, too, to win her favour, for all are in slavery here, and have lost all conscience and pity here long ago. They have become utterly vile, and nothing on earth is viler, more loathsome, and more insulting than their abuse. And you are laying down everything here, unconditionally, youth and health and beauty and hope, and at twenty-two you will look like a woman of five-and-thirty, and you will be lucky if you are not diseased, pray to God for that! No doubt you are thinking now that you have a gay time and no work to do! Yet there is no work harder or more dreadful in the world or ever has been. One would think that the heart alone would be worn out with tears. And you won’t dare to say a word, not half a word when they drive you away from here; you will go away as though you were to blame. You will change to another house, then to a third, then somewhere else, till you come down at last to the Haymarket. There you will be beaten at every turn; that is good manners there, the visitors don’t know how to be friendly without beating you. You don’t believe that it is so hateful there? Go and look for yourself some time, you can see with your own eyes. Once, one New Year’s Day, I saw a woman at a door. They had turned her out as a joke, to give her a taste of the frost because she had been crying so much, and they shut the door behind her. At nine o’clock in the morning she was already quite drunk, dishevelled, half-naked, covered with bruises, her face was powdered, but she had a black eye, blood was trickling from her nose and her teeth; some cabman had just given her a drubbing. She was sitting on the stone steps, a salt fish of some sort was in her hand; she was crying, wailing something about her luck and beating with the fish on the steps, and cabmen and drunken soldiers were crowding in the doorway taunting her. You don’t believe that you will ever be like that? I should be sorry to believe it, too, but how do you know; maybe ten years, eight years ago that very woman with the salt fish came here fresh as a cherub, innocent, pure, knowing no evil, blushing at every word. Perhaps she was like you, proud, ready to take offence, not like the others; perhaps she looked like a queen, and knew what happiness was in store for the man who should love her and whom she should love. Do you see how it ended? And what if at that very minute when she was beating on the filthy steps with that fish, drunken and dishevelled—what if at that very minute she recalled the pure early days in her father’s house, when she used to go to school and the neighbour’s son watched for her on the way, declaring that he would love her as long as he lived, that he would devote his life to her, and when they vowed to love one another for ever and be married as soon as they were grown up! No, Liza, it would be happy for you if you were to die soon of consumption in some corner, in some cellar like that woman just now. In the hospital, do you say? You will be lucky if they take you, but what if you are still of use to the madam here? Consumption is a queer disease, it is not like fever. The patient goes on hoping till the last minute and says he is all right. He deludes himself. And that just suits your madam. Don’t doubt it, that’s how it is; you have sold your soul, and what is more you owe money, so you daren’t say a word. But when you are dying, all will abandon you, all will turn away from you, for then there will be nothing to get from you. What’s more, they will reproach you for cumbering the place, for being so long over dying. However you beg you won’t get a drink of water without abuse: ’Whenever are you going off, you nasty hussy, you won’t let us sleep with your moaning, you make the gentlemen sick.’ That’s true, I have heard such things said myself. They will thrust you dying into the filthiest corner in the cellar—in the damp and darkness; what will your thoughts be, lying there alone? When you die, strange hands will lay you out, with grumbling and impatience; no one will bless you, no one will sigh for you, they only want to get rid of you as soon as may be; they will buy a coffin, take you to the grave as they did that poor woman to-day, and celebrate your memory at the tavern. In the grave sleet, filth, wet snow—no need to put themselves out for you—’Let her down, Vanuha; it’s just like her luck—even here, she is head-foremost, the hussy. Shorten the cord, you rascal.’ ’It’s all right as it is.’ ’All right, is it? Why, she’s on her side! She was a fellow-creature, after all! But, never mind, throw the earth on her.’ And they won’t care to waste much time quarrelling over you. They will scatter the wet blue clay as quick as they can and go off to the tavern ... and there your memory on earth will end; other women have children to go to their graves, fathers, husbands. While for you neither tear, nor sigh, nor remembrance; no one in the whole world will ever come to you, your name will vanish from the face of the earth—as though you had never existed, never been born at all! Nothing but filth and mud, however you knock at your coffin lid at night, when the dead arise, however you cry: ’Let me out, kind people, to live in the light of day! My life was no life at all; my life has been thrown away like a dish-clout; it was drunk away in the tavern at the Haymarket; let me out, kind people, to live in the world again.’"
And I worked myself up to such a pitch that I began to have a lump in my throat myself, and ... and all at once I stopped, sat up in dismay, and bending over apprehensively, began to listen with a beating heart. I had reason to be troubled.
I had felt for some time that I was turning her soul upside down and rending her heart, and—and the more I was convinced of it, the more eagerly I desired to gain my object as quickly and as effectually as possible. It was the exercise of my skill that carried me away; yet it was not merely sport....
I knew I was speaking stiffly, artificially, even bookishly, in fact, I could not speak except "like a book." But that did not trouble me: I knew, I felt that I should be understood and that this very bookishness might be an assistance. But now, having attained my effect, I was suddenly panic-stricken. Never before had I witnessed such despair! She was lying on her face, thrusting her face into the pillow and clutching it in both hands. Her heart was being torn. Her youthful body was shuddering all over as though in convulsions. Suppressed sobs rent her bosom and suddenly burst out in weeping and wailing, then she pressed closer into the pillow: she did not want any one here, not a living soul, to know of her anguish and her tears. She bit the pillow, bit her hand till it bled (I saw that afterwards), or, thrusting her fingers into her dishevelled hair seemed rigid with the effort of restraint, holding her breath and clenching her teeth. I began saying something, begging her to calm herself, but felt that I did not dare; and all at once, in a sort of cold shiver, almost in terror, began fumbling in the dark, trying hurriedly to get dressed to go. It was dark: though I tried my best I could not finish dressing quickly. Suddenly I felt a box of matches and a candlestick with a whole candle in it. As soon as the room was lighted up, Liza sprang up, sat up in bed, and with a contorted face, with a half insane smile, looked at me almost senselessly. I sat down beside her and took her hands; she came to herself, made an impulsive movement towards me, would have caught hold of me, but did not dare, and slowly bowed her head before me.
"Liza, my dear, I was wrong ... forgive me, my dear," I began, but she squeezed my hand in her fingers so tightly that I felt I was saying the wrong thing and stopped.
"This is my address, Liza, come to me."
"I will come," she answered resolutely, her head still bowed.
"But now I am going, good-bye ... till we meet again."
I got up; she, too, stood up and suddenly flushed all over, gave a shudder, snatched up a shawl that was lying on a chair and muffled herself in it to her chin. As she did this she gave another sickly smile, blushed and looked at me strangely. I felt wretched; I was in haste to get away—to disappear.
"Wait a minute," she said suddenly, in the passage just at the doorway, stopping me with her hand on my overcoat. She put down the candle in hot haste and ran off; evidently she had thought of something or wanted to show me something. As she ran away she flushed, her eyes shone, and there was a smile on her lips—what was the meaning of it? Against my will I waited: she came back a minute later with an expression that seemed to ask forgiveness for something. In fact, it was not the same face, not the same look as the evening before: sullen, mistrustful and obstinate. Her eyes now were imploring, soft, and at the same time trustful, caressing, timid. The expression with which children look at people they are very fond of, of whom they are asking a favour. Her eyes were a light hazel, they were lovely eyes, full of life, and capable of expressing love as well as sullen hatred.
Making no explanation, as though I, as a sort of higher being, must understand everything without explanations, she held out a piece of paper to me. Her whole face was positively beaming at that instant with naïve, almost childish, triumph. I unfolded it. It was a letter to her from a medical student or some one of that sort—a very high-flown and flowery, but extremely respectful, love-letter. I don’t recall the words now, but I remember well that through the high-flown phrases there was apparent a genuine feeling, which cannot be feigned. When I had finished reading it I met her glowing, questioning, and childishly impatient eyes fixed upon me. She fastened her eyes upon my face and waited impatiently for what I should say. In a few words, hurriedly, but with a sort of joy and pride, she explained to me that she had been to a dance somewhere in a private house, a family of "very nice people, who knew nothing, absolutely nothing, for she had only come here so lately and it had all happened ... and she hadn’t made up her mind to stay and was certainly going away as soon as she had paid her debt ... and at that party there had been the student who had danced with her all the evening. He had talked to her, and it turned out that he had known her in old days at Riga when he was a child, they had played together, but a very long time ago—and he knew her parents, but about this he knew nothing, nothing whatever, and had no suspicion! And the day after the dance (three days ago) he had sent her that letter through the friend with whom she had gone to the party ... and ... well, that was all."
She dropped her shining eyes with a sort of bashfulness as she finished.
The poor girl was keeping that student’s letter as a precious treasure, and had run to fetch it, her only treasure, because she did not want me to go away without knowing that she, too, was honestly and genuinely loved; that she, too, was addressed respectfully. No doubt that letter was destined to lie in her box and lead to nothing. But none the less, I am certain that she would keep it all her life as a precious treasure, as her pride and justification, and now at such a minute she had thought of that letter and brought it with naïve pride to raise herself in my eyes that I might see, that I, too, might think well of her. I said nothing, pressed her hand and went out. I so longed to get away.... I walked all the way home, in spite of the fact that the melting snow was still falling in heavy flakes. I was exhausted, shattered, in bewilderment. But behind the bewilderment the truth was already gleaming. The loathsome truth.
VIII
It was some time, however, before I consented to recognize that truth. Waking up in the morning after some hours of heavy, leaden sleep, and immediately realizing all that had happened on the previous day, I was positively amazed at my last night’s sentimentality with Liza, at all those "outcries of horror and pity." "To think of having such an attack of womanish hysteria, pah!" I concluded. And what did I thrust my address upon her for? What if she comes? Let her come, though; it doesn’t matter.... But obviously, that was not now the chief and the most important matter: I had to make haste and at all costs save my reputation in the eyes of Zverkov and Simonov as quickly as possible; that was the chief business. And I was so taken up that morning that I actually forgot all about Liza.
First of all I had at once to repay what I had borrowed the day before from Simonov. I resolved on a desperate measure: to borrow fifteen roubles straight off from Anton Antonitch. As luck would have it he was in the best of humours that morning, and gave it to me at once, on the first asking. I was so delighted at this that, as I signed the I O U with a swaggering air, I told him casually that the night before "I had been keeping it up with some friends at the Hôtel de Paris; we were giving a farewell party to a comrade, in fact, I might say a friend of my childhood, and you know—a desperate rake, fearfully spoilt—of course, he belongs to a good family, and has considerable means, a brilliant career; he is witty, charming, a regular Lovelace, you understand; we drank an extra ’half-dozen’ and...."
And it went off all right; all this was uttered very easily, unconstrainedly and complacently.
On reaching home I promptly wrote to Simonov.
To this hour I am lost in admiration when I recall the truly gentlemanly, good-humoured, candid tone of my letter. With tact and good-breeding, and, above all, entirely without superfluous words, I blamed myself for all that had happened. I defended myself, "if I really may be allowed to defend myself," by alleging that being utterly unaccustomed to wine, I had been intoxicated with the first glass, which I said, I had drunk before they arrived, while I was waiting for them at the Hôtel de Paris between five and six o’clock. I begged Simonov’s pardon especially; I asked him to convey my explanations to all the others, especially to Zverkov, whom "I seemed to remember as though in a dream" I had insulted. I added that I would have called upon all of them myself, but my head ached, and besides I had not the face to. I was particularly pleased with a certain lightness, almost carelessness (strictly within the bounds of politeness, however), which was apparent in my style, and better than any possible arguments, gave them at once to understand that I took rather an independent view of "all that unpleasantness last night;" that I was by no means so utterly crushed as you, my friends, probably imagine; but on the contrary, looked upon it as a gentleman serenely respecting himself should look upon it. "On a young hero’s past no censure is cast!"
"There is actually an aristocratic playfulness about it!" I thought admiringly, as I read over the letter. And it’s all because I am an intellectual and cultivated man! Another man in my place would not have known how to extricate himself, but here I have got out of it and am as jolly as ever again, and all because I am "a cultivated and educated man of our day." And, indeed, perhaps, everything was due to the wine yesterday. H’m! ... no, it was not the wine. I did not drink anything at all between five and six when I was waiting for them. I had lied to Simonov; I had lied shamelessly; and indeed I wasn’t ashamed now.... Hang it all though, the great thing was that I was rid of it.
I put six roubles in the letter, sealed it up, and asked Apollon to take it to Simonov. When he learned that there was money in the letter, Apollon became more respectful and agreed to take it. Towards evening I went out for a walk. My head was still aching and giddy after yesterday. But as evening came on and the twilight grew denser, my impressions and, following them, my thoughts, grew more and more different and confused. Something was not dead within me, in the depths of my heart and conscience it would not die, and it showed itself in acute depression. For the most part I jostled my way through the most crowded business streets, along Myeshtchansky Street, along Sadovy Street and in Yusupov Garden. I always liked particularly sauntering along these streets in the dusk, just when there were crowds of working people of all sorts going home from their daily work, with faces looking cross with anxiety. What I liked was just that cheap bustle, that bare prose. On this occasion the jostling of the streets irritated me more than ever. I could not make out what was wrong with me, I could not find the clue, something seemed rising up continually in my soul, painfully, and refusing to be appeased. I returned home completely upset, it was just as though some crime were lying on my conscience.
The thought that Liza was coming worried me continually. It seemed queer to me that of all my recollections of yesterday this tormented me, as it were, especially, as it were, quite separately. Everything else I had quite succeeded in forgetting by the evening; I dismissed it all and was still perfectly satisfied with my letter to Simonov. But on this point I was not satisfied at all. It was as though I were worried only by Liza. "What if she comes," I thought incessantly, "well, it doesn’t matter, let her come! H’m! it’s horrid that she should see, for instance, how I live. Yesterday I seemed such a hero to her, while now, h’m! It’s horrid, though, that I have let myself go so, the room looks like a beggar’s. And I brought myself to go out to dinner in such a suit! And my American leather sofa with the stuffing sticking out. And my dressing-gown, which will not cover me, such tatters, and she will see all this and she will see Apollon. That beast is certain to insult her. He will fasten upon her in order to be rude to me. And I, of course, shall be panic-stricken as usual, I shall begin bowing and scraping before her and pulling my dressing-gown round me, I shall begin smiling, telling lies. Oh, the beastliness! And it isn’t the beastliness of it that matters most! There is something more important, more loathsome, viler! Yes, viler! And to put on that dishonest lying mask again!"...
When I reached that thought I fired up all at once.
"Why dishonest? How dishonest? I was speaking sincerely last night. I remember there was real feeling in me, too. What I wanted was to excite an honourable feeling in her.... Her crying was a good thing, it will have a good effect."
Yet I could not feel at ease. All that evening, even when I had come back home, even after nine o’clock, when I calculated that Liza could not possibly come, she still haunted me, and what was worse, she came back to my mind always in the same position. One moment out of all that had happened last night stood vividly before my imagination; the moment when I struck a match and saw her pale, distorted face, with its look of torture. And what a pitiful, what an unnatural, what a distorted smile she had at that moment! But I did not know then, that fifteen years later I should still in my imagination see Liza, always with the pitiful, distorted, inappropriate smile which was on her face at that minute.
Next day I was ready again to look upon it all as nonsense, due to over-excited nerves, and, above all, as exaggerated. I was always conscious of that weak point of mine, and sometimes very much afraid of it. "I exaggerate everything, that is where I go wrong," I repeated to myself every hour. But, however, "Liza will very likely come all the same," was the refrain with which all my reflections ended. I was so uneasy that I sometimes flew into a fury: "She’ll come, she is certain to come!" I cried, running about the room, "if not to-day, she will come to-morrow; she’ll find me out! The damnable romanticism of these pure hearts! Oh, the vileness—oh, the silliness—oh, the stupidity of these ’wretched sentimental souls!’ Why, how fail to understand? How could one fail to understand?..."
But at this point I stopped short, and in great confusion, indeed.
And how few, how few words, I thought, in passing, were needed; how little of the idyllic (and affectedly, bookishly, artificially idyllic too) had sufficed to turn a whole human life at once according to my will. That’s virginity, to be sure! Freshness of soil!
At times a thought occurred to me, to go to her, "to tell her all," and beg her not to come to me. But this thought stirred such wrath in me that I believed I should have crushed that "damned" Liza if she had chanced to be near me at the time. I should have insulted her, have spat at her, have turned her out, have struck her!
One day passed, however, another and another; she did not come and I began to grow calmer. I felt particularly bold and cheerful after nine o’clock, I even sometimes began dreaming, and rather sweetly: I, for instance, became the salvation of Liza, simply through her coming to me and my talking to her.... I develop her, educate her. Finally, I notice that she loves me, loves me passionately. I pretend not to understand (I don’t know, however, why I pretend, just for effect, perhaps). At last all confusion, transfigured, trembling and sobbing, she flings herself at my feet and says that I am her saviour, and that she loves me better than anything in the world. I am amazed, but.... "Liza," I say, "can you imagine that I have not noticed your love, I saw it all, I divined it, but I did not dare to approach you first, because I had an influence over you and was afraid that you would force yourself, from gratitude, to respond to my love, would try to rouse in your heart a feeling which was perhaps absent, and I did not wish that ... because it would be tyranny ... it would be indelicate (in short, I launch off at that point into European, inexplicably lofty subtleties à la George Sand), but now, now you are mine, you are my creation, you are pure, you are good, you are my noble wife.
Into my house come bold and free,
Its rightful mistress there to be. [19]
Then we begin living together, go abroad and so on, and so on. In fact, in the end it seemed vulgar to me myself, and I began putting out my tongue at myself.
Besides, they won’t let her out, "the hussy!" I thought. They don’t let them go out very readily, especially in the evening (for some reason I fancied she would come in the evening, and at seven o’clock precisely). Though she did say she was not altogether a slave there yet, and had certain rights; so, h’m! Damn it all, she will come, she is sure to come!
It was a good thing, in fact, that Apollon distracted my attention at that time by his rudeness. He drove me beyond all patience! He was the bane of my life, the curse laid upon me by Providence. We had been squabbling continually for years, and I hated him. My God, how I hated him! I believe I had never hated any one in my life as I hated him, especially at some moments. He was an elderly, dignified man, who worked part of his time as a tailor. But for some unknown reason he despised me beyond all measure, and looked down upon me insufferably. Though, indeed, he looked down upon every one. Simply to glance at that flaxen, smoothly brushed head, at the tuft of hair he combed up on his forehead and oiled with sunflower oil, at that dignified mouth, compressed into the shape of the letter V, made one feel one was confronting a man who never doubted of himself. He was a pedant, to the most extreme point, the greatest pedant I had met on earth, and with that had a vanity only befitting Alexander of Macedon. He was in love with every button on his coat, every nail on his fingers—absolutely in love with them, and he looked it! In his behaviour to me he was a perfect tyrant, he spoke very little to me, and if he chanced to glance at me he gave me a firm, majestically self-confident and invariably ironical look that drove me sometimes to fury. He did his work with the air of doing me the greatest favour. Though he did scarcely anything for me, and did not, indeed, consider himself bound to do anything. There could be no doubt that he looked upon me as the greatest fool on earth, and that "he did not get rid of me" was simply that he could get wages from me every month. He consented to do nothing for me for seven roubles a month. Many sins should be forgiven me for what I suffered from him. My hatred reached such a point that sometimes his very step almost threw me into convulsions. What I loathed particularly was his lisp. His tongue must have been a little too long or something of that sort, for he continually lisped, and seemed to be very proud of it, imagining that it greatly added to his dignity. He spoke in a slow, measured tone, with his hands behind his back and his eyes fixed on the ground. He maddened me particularly when he read aloud the psalms to himself behind his partition. Many a battle I waged over that reading! But he was awfully fond of reading aloud in the evenings, in a slow, even, sing-song voice, as though over the dead. It is interesting that that is how he has ended: he hires himself out to read the psalms over the dead, and at the same time he kills rats and makes blacking. But at that time I could not get rid of him, it was as though he were chemically combined with my existence. Besides, nothing would have induced him to consent to leave me. I could not live in furnished lodgings: my lodging was my private solitude, my shell, my cave, in which I concealed myself from all mankind, and Apollon seemed to me, for some reason, an integral part of that flat, and for seven years I could not turn him away.
To be two or three days behind with his wages, for instance, was impossible. He would have made such a fuss, I should not have known where to hide my head. But I was so exasperated with every one during those days, that I made up my mind for some reason and with some object to punish Apollon and not to pay him for a fortnight the wages that were owing him. I had for a long time—for the last two years—been intending to do this, simply in order to teach him not to give himself airs with me, and to show him that if I liked I could withhold his wages. I purposed to say nothing to him about it, and was purposely silent indeed, in order to score off his pride and force him to be the first to speak of his wages. Then I would take the seven roubles out of a drawer, show him I have the money put aside on purpose, but that I won’t, I won’t, I simply won’t pay him his wages, I won’t just because that is "what I wish," because "I am master, and it is for me to decide," because he has been disrespectful, because he has been rude; but if he were to ask respectfully I might be softened and give it to him, otherwise he might wait another fortnight, another three weeks, a whole month....
But angry as I was, yet he got the better of me. I could not hold out for four days. He began as he always did begin in such cases, for there had been such cases already, there had been attempts (and it may be observed I knew all this beforehand, I knew his nasty tactics by heart). He would begin by fixing upon me an exceedingly severe stare, keeping it up for several minutes at a time, particularly on meeting me or seeing me out of the house. If I held out and pretended not to notice these stares, he would, still in silence, proceed to further tortures. All at once, à propos of nothing, he would walk softly and smoothly into my room, when I was pacing up and down or reading, stand at the door, one hand behind his back and one foot behind the other, and fix upon me a stare more than severe, utterly contemptuous. If I suddenly asked him what he wanted, he would make me no answer, but continue staring at me persistently for some seconds, then, with a peculiar compression of his lips and a most significant air, deliberately turn round and deliberately go back to his room. Two hours later he would come out again and again present himself before me in the same way. It had happened that in my fury I did not even ask him what he wanted, but simply raised my head sharply and imperiously and began staring back at him. So we stared at one another for two minutes; at last he turned with deliberation and dignity and went back again for two hours.
If I were still not brought to reason by all this, but persisted in my revolt, he would suddenly begin sighing while he looked at me, long, deep sighs as though measuring by them the depths of my moral degradation, and, of course, it ended at last by his triumphing completely: I raged and shouted, but still was forced to do what he wanted.
This time the usual staring manœuvres had scarcely begun when I lost my temper and flew at him in a fury. I was irritated beyond endurance apart from him.
"Stay," I cried, in a frenzy, as he was slowly and silently turning, with one hand behind his back, to go to his room, "stay! Come back, come back, I tell you!" and I must have bawled so unnaturally, that he turned round and even looked at me with some wonder. However, he persisted in saying nothing, and that infuriated me.
"How dare you come and look at me like that without being sent for? Answer!"
After looking at me calmly for half a minute, he began turning round again.
"Stay!" I roared, running up to him, "don’t stir! There. Answer, now: what did you come in to look at?"
"If you have any order to give me it’s my duty to carry it out," he answered, after another silent pause, with a slow, measured lisp, raising his eyebrows and calmly twisting his head from one side to another, all this with exasperating composure.
"That’s not what I am asking you about, you torturer!" I shouted, turning crimson with anger. "I’ll tell you why you came here myself: you see, I don’t give you your wages, you are so proud you don’t want to bow down and ask for it, and so you come to punish me with your stupid stares, to worry me and you have no sus...pic...ion how stupid it is—stupid, stupid, stupid, stupid!"...
He would have turned round again without a word, but I seized him.
"Listen," I shouted to him. "Here’s the money, do you see, here it is" (I took it out of the table drawer); "here’s the seven roubles complete, but you are not going to have it, you ... are ... not ... going ... to ... have it until you come respectfully with bowed head to beg my pardon. Do you hear?"
"That cannot be," he answered, with the most unnatural self-confidence.
"It shall be so," I said, "I give you my word of honour, it shall be!"
"And there’s nothing for me to beg your pardon for," he went on, as though he had not noticed my exclamations at all. "Why, besides, you called me a ’torturer,’ for which I can summon you at the police-station at any time for insulting behaviour."
"Go, summon me," I roared, "go at once, this very minute, this very second! You are a torturer all the same! a torturer!"
But he merely looked at me, then turned, and regardless of my loud calls to him, he walked to his room with an even step and without looking round.
"If it had not been for Liza nothing of this would have happened," I decided inwardly. Then, after waiting a minute, I went myself behind his screen with a dignified and solemn air, though my heart was beating slowly and violently.
"Apollon," I said quietly and emphatically, though I was breathless, "go at once without a minute’s delay and fetch the police-officer."
He had meanwhile settled himself at his table, put on his spectacles and taken up some sewing. But, hearing my order, he burst into a guffaw.
"At once, go this minute! Go on, or else you can’t imagine what will happen."
"You are certainly out of your mind," he observed, without even raising his head, lisping as deliberately as ever and threading his needle. "Whoever heard of a man sending for the police against himself? And as for being frightened—you are upsetting yourself about nothing, for nothing will come of it."
"Go!" I shrieked, clutching him by the shoulder. I felt I should strike him in a minute.
But I did not notice the door from the passage softly and slowly open at that instant and a figure come in, stop short, and begin staring at us in perplexity. I glanced, nearly swooned with shame, and rushed back to my room. There, clutching at my hair with both hands, I leaned my head against the wall and stood motionless in that position.
Two minutes later I heard Apollon’s deliberate footsteps. "There is some woman asking for you," he said, looking at me with peculiar severity. Then he stood aside and let in Liza. He would not go away, but stared at us sarcastically.
"Go away, go away," I commanded in desperation. At that moment my clock began whirring and wheezing and struck seven.
IX
"Into my house come bold and free,
Its rightful mistress there to be."
I stood before her crushed, crestfallen, revoltingly confused, and I believe I smiled as I did my utmost to wrap myself in the skirts of my ragged wadded dressing-gown—exactly as I had imagined the scene not long before in a fit of depression. After standing over us for a couple of minutes Apollon went away, but that did not make me more at ease. What made it worse was that she, too, was overwhelmed with confusion, more so, in fact, than I should have expected. At the sight of me, of course.
"Sit down," I said mechanically, moving a chair up to the table, and I sat down on the sofa. She obediently sat down at once and gazed at me open-eyed, evidently expecting something from me at once. This naïveté of expectation drove me to fury, but I restrained myself.
She ought to have tried not to notice, as though everything had been as usual, while instead of that, she ... and I dimly felt that I should make her pay dearly for all this.
"You have found me in a strange position, Liza," I began, stammering and knowing that this was the wrong way to begin. "No, no, don’t imagine anything," I cried, seeing that she had suddenly flushed. "I am not ashamed of my poverty.... On the contrary I look with pride on my poverty. I am poor but honourable.... One can be poor and honourable," I muttered. "However ... would you like tea?"...
"No," she was beginning.
"Wait a minute."
I leapt up and ran to Apollon. I had to get out of the room somehow.
"Apollon," I whispered in feverish haste, flinging down before him the seven roubles which had remained all the time in my clenched fist, "here are your wages, you see I give them to you; but for that you must come to my rescue: bring me tea and a dozen rusks from the restaurant. If you won’t go, you’ll make me a miserable man! You don’t know what this woman is.... This is—everything! You may be imagining something.... But you don’t know what that woman is!"...
Apollon, who had already sat down to his work and put on his spectacles again, at first glanced askance at the money without speaking or putting down his needle; then, without paying the slightest attention to me or making any answer he went on busying himself with his needle, which he had not yet threaded. I waited before him for three minutes with my arms crossed à la Napoléon. My temples were moist with sweat. I was pale, I felt it. But, thank God, he must have been moved to pity, looking at me. Having threaded his needle he deliberately got up from his seat, deliberately moved back his chair, deliberately took off his spectacles, deliberately counted the money, and finally asking me over his shoulder: "Shall I get a whole portion?" deliberately walked out of the room. As I was going back to Liza, the thought occurred to me on the way: shouldn’t I run away just as I was in my dressing-gown, no matter where, and then let happen what would.
I sat down again. She looked at me uneasily. For some minutes we were silent.
"I will kill him," I shouted suddenly, striking the table with my fist so that the ink spurted out of the inkstand.
"What are you saying!" she cried, starting.
"I will kill him! kill him!" I shrieked, suddenly striking the table in absolute frenzy, and at the same time fully understanding how stupid it was to be in such a frenzy. "You don’t know, Liza, what that torturer is to me. He is my torturer.... He has gone now to fetch some rusks; he...."
And suddenly I burst into tears. It was a hysterical attack. How ashamed I felt in the midst of my sobs; but still I could not restrain them.
She was frightened.
"What is the matter? What is wrong?" she cried, fussing about me.
"Water, give me water, over there!" I muttered in a faint voice, though I was inwardly conscious that I could have got on very well without water and without muttering in a faint voice. But I was, what is called, putting it on, to save appearances, though the attack was a genuine one.
She gave me water, looking at me in bewilderment. At that moment Apollon brought in the tea. It suddenly seemed to me that this commonplace, prosaic tea was horribly undignified and paltry after all that had happened, and I blushed crimson. Liza looked at Apollon with positive alarm. He went out without a glance at either of us.
"Liza, do you despise me?" I asked, looking at her fixedly, trembling with impatience to know what she was thinking.
She was confused, and did not know what to answer.
"Drink your tea," I said to her angrily. I was angry with myself, but, of course, it was she who would have to pay for it. A horrible spite against her suddenly surged up in my heart; I believe I could have killed her. To revenge myself on her I swore inwardly not to say a word to her all the time. "She is the cause of it all," I thought.
Our silence lasted for five minutes. The tea stood on the table; we did not touch it. I had got to the point of purposely refraining from beginning in order to embarrass her further; it was awkward for her to begin alone. Several times she glanced at me with mournful perplexity. I was obstinately silent. I was, of course, myself the chief sufferer, because I was fully conscious of the disgusting meanness of my spiteful stupidity, and yet at the same time I could not restrain myself.
"I want to ... get away ... from there altogether," she began, to break the silence in some way, but, poor girl, that was just what she ought not to have spoken about at such a stupid moment to a man so stupid as I was. My heart positively ached with pity for her tactless and unnecessary straightforwardness. But something hideous at once stifled all compassion in me; it even provoked me to greater venom. I did not care what happened. Another five minutes passed.
"Perhaps I am in your way," she began timidly, hardly audibly, and was getting up.
But as soon as I saw this first impulse of wounded dignity I positively trembled with spite, and at once burst out.
"Why have you come to me, tell me that, please?" I began, gasping for breath and regardless of logical connection in my words. I longed to have it all out at once, at one burst; I did not even trouble how to begin. "Why have you come? Answer, answer," I cried, hardly knowing what I was doing. "I’ll tell you, my good girl, why you have come. You’ve come because I talked sentimental stuff to you then. So now you are soft as butter and longing for fine sentiments again. So you may as well know that I was laughing at you then. And I am laughing at you now. Why are you shuddering? Yes, I was laughing at you! I had been insulted just before, at dinner, by the fellows who came that evening before me. I came to you, meaning to thrash one of them, an officer; but I didn’t succeed, I didn’t find him; I had to avenge the insult on some one to get back my own again; you turned up, I vented my spleen on you and laughed at you. I had been humiliated, so I wanted to humiliate; I had been treated like a rag, so I wanted to show my power.... That’s what it was, and you imagined I had come there on purpose to save you. Yes? You imagined that? You imagined that?"
I knew that she would perhaps be muddled and not take it all in exactly, but I knew, too, that she would grasp the gist of it, very well indeed. And so, indeed, she did. She turned white as a handkerchief, tried to say something, and her lips worked painfully; but she sank on a chair as though she had been felled by an axe. And all the time afterwards she listened to me with her lips parted and her eyes wide open, shuddering with awful terror. The cynicism, the cynicism of my words overwhelmed her....
"Save you!" I went on, jumping up from my chair and running up and down the room before her. "Save you from what? But perhaps I am worse than you myself. Why didn’t you throw it in my teeth when I was giving you that sermon: ’But what did you come here yourself for? was it to read us a sermon?’ Power, power was what I wanted then, sport was what I wanted, I wanted to wring out your tears, your humiliation, your hysteria—that was what I wanted then! Of course, I couldn’t keep it up then, because I am a wretched creature, I was frightened, and, the devil knows why, gave you my address in my folly. Afterwards, before I got home, I was cursing and swearing at you because of that address, I hated you already because of the lies I had told you. Because I only like playing with words, only dreaming, but, do you know, what I really want is that you should all go to hell. That is what I want. I want peace; yes, I’d sell the whole world for a farthing, straight off, so long as I was left in peace. Is the world to go to pot, or am I to go without my tea? I say that the world may go to pot for me so long as I always get my tea. Did you know that, or not? Well, anyway, I know that I am a blackguard, a scoundrel, an egoist, a sluggard. Here I have been shuddering for the last three days at the thought of your coming. And do you know what has worried me particularly for these three days? That I posed as such a hero to you, and now you would see me in a wretched torn dressing-gown, beggarly, loathsome. I told you just now that I was not ashamed of my poverty; so you may as well know that I am ashamed of it; I am more ashamed of it than of anything, more afraid of it than of being found out if I were a thief, because I am as vain as though I had been skinned and the very air blowing on me hurt. Surely by now you must realize that I shall never forgive you for having found me in this wretched dressing-gown, just as I was flying at Apollon like a spiteful cur. The saviour, the former hero, was flying like a mangy, unkempt sheep-dog at his lackey, and the lackey was jeering at him! And I shall never forgive you for the tears I could not help shedding before you just now, like some silly woman put to shame! And for what I am confessing to you now, I shall never forgive you either! Yes—you must answer for it all because you turned up like this, because I am a blackguard, because I am the nastiest, stupidest, absurdest and most envious of all the worms on earth, who are not a bit better than I am, but, the devil knows why, are never put to confusion; while I shall always be insulted by every louse, that is my doom! And what is it to me that you don’t understand a word of this! And what do I care, what do I care about you, and whether you go to ruin there or not? Do you understand? How I shall hate you now after saying this, for having been here and listening. Why, it’s not once in a lifetime a man speaks out like this, and then it is in hysterics!... What more do you want? Why do you still stand confronting me, after all this? Why are you worrying me? Why don’t you go?"
But at this point a strange thing happened. I was so accustomed to think and imagine everything from books, and to picture everything in the world to myself just as I had made it up in my dreams beforehand, that I could not all at once take in this strange circumstance. What happened was this: Liza, insulted and crushed by me, understood a great deal more than I imagined. She understood from all this what a woman understands first of all, if she feels genuine love, that is, that I was myself unhappy.
The frightened and wounded expression on her face was followed first by a look of sorrowful perplexity. When I began calling myself a scoundrel and a blackguard and my tears flowed (the tirade was accompanied throughout by tears) her whole face worked convulsively. She was on the point of getting up and stopping me; when I finished she took no notice of my shouting: "Why are you here, why don’t you go away?" but realized only that it must have been very bitter to me to say all this. Besides, she was so crushed, poor girl; she considered herself infinitely beneath me; how could she feel anger or resentment? She suddenly leapt up from her chair with an irresistible impulse and held out her hands, yearning towards me, though still timid and not daring to stir.... At this point there was a revulsion in my heart, too. Then she suddenly rushed to me, threw her arms round me and burst into tears. I, too, could not restrain myself, and sobbed as I never had before.
"They won’t let me.... I can’t be good!" I managed to articulate; then I went to the sofa, fell on it face downwards, and sobbed on it for a quarter of an hour in genuine hysterics. She came close to me, put her arms round me and stayed motionless in that position. But the trouble was that the hysterics could not go on for ever, and (I am writing the loathsome truth) lying face downwards on the sofa with my face thrust into my nasty leather pillow, I began by degrees to be aware of a far-away, involuntary but irresistible feeling that it would be awkward now for me to raise my head and look Liza straight in the face. Why was I ashamed? I don’t know, but I was ashamed. The thought, too, came into my overwrought brain that our parts now were completely changed, that she was now the heroine, while I was just such a crushed and humiliated creature as she had been before me that night—four days before.... And all this came into my mind during the minutes I was lying on my face on the sofa.
My God! surely I was not envious of her then.
I don’t know, to this day I cannot decide, and at the time, of course, I was still less able to understand what I was feeling than now. I cannot get on without domineering and tyrannizing over some one, but ... there is no explaining anything by reasoning and so it is useless to reason.
I conquered myself, however, and raised my head; I had to do so sooner or later ... and I am convinced to this day that it was just because I was ashamed to look at her that another feeling was suddenly kindled and flamed up in my heart ... a feeling of mastery and possession. My eyes gleamed with passion, and I gripped her hands tightly. How I hated her and how I was drawn to her at that minute! The one feeling intensified the other. It was almost like an act of vengeance. At first there was a look of amazement, even of terror on her face, but only for one instant. She warmly and rapturously embraced me.
X
A quarter of an hour later I was rushing up and down the room in frenzied impatience, from minute to minute I went up to the screen and peeped through the crack at Liza. She was sitting on the ground with her head leaning against the bed, and must have been crying. But she did not go away, and that irritated me. This time she understood it all. I had insulted her finally, but ... there’s no need to describe it. She realized that my outburst of passion had been simply revenge, a fresh humiliation, and that to my earlier, almost causeless hatred was added now a personal hatred, born of envy.... Though I do not maintain positively that she understood all this distinctly; but she certainly did fully understand that I was a despicable man, and what was worse, incapable of loving her.
I know I shall be told that this is incredible—but it is incredible to be as spiteful and stupid as I was; it may be added that it was strange I should not love her, or at any rate, appreciate her love. Why is it strange? In the first place, by then I was incapable of love, for I repeat, with me loving meant tyrannizing and showing my moral superiority. I have never in my life been able to imagine any other sort of love, and have nowadays come to the point of sometimes thinking that love really consists in the right—freely given by the beloved object—to tyrannize over her.
Even in my underground dreams I did not imagine love except as a struggle. I began it always with hatred and ended it with moral subjugation, and afterwards I never knew what to do with the subjugated object. And what is there to wonder at in that, since I had succeeded in so corrupting myself, since I was so out of touch with "real life," as to have actually thought of reproaching her, and putting her to shame for having come to me to hear "fine sentiments"; and did not even guess that she had come not to hear fine sentiments, but to love me, because to a woman all reformation, all salvation from any sort of ruin, and all moral renewal is included in love and can only show itself in that form.
I did not hate her so much, however, when I was running about the room and peeping through the crack in the screen. I was only insufferably oppressed by her being here. I wanted her to disappear. I wanted "peace," to be left alone in my underground world. Real life oppressed me with its novelty so much that I could hardly breathe.
But several minutes passed and she still remained, without stirring, as though she were unconscious. I had the shamelessness to tap softly at the screen as though to remind her.... She started, sprang up, and flew to seek her kerchief, her hat, her coat, as though making her escape from me.... Two minutes later she came from behind the screen and looked with heavy eyes at me. I gave a spiteful grin, which was forced, however, to keep up appearances, and I turned away from her eyes.
"Good-bye," she said, going towards the door.
I ran up to her, seized her hand, opened it, thrust something in it and closed it again. Then I turned at once and dashed away in haste to the other corner of the room to avoid seeing, anyway....
I did mean a moment since to tell a lie—to write that I did this accidentally, not knowing what I was doing through foolishness, through losing my head. But I don’t want to lie, and so I will say straight out that I opened her hand and put the money in it ... from spite. It came into my head to do this while I was running up and down the room and she was sitting behind the screen. But this I can say for certain: though I did that cruel thing purposely, it was not an impulse from the heart, but came from my evil brain. This cruelty was so affected, so purposely made up, so completely a product of the brain, of books, that I could not even keep it up a minute—first I dashed away to avoid seeing her, and then in shame and despair rushed after Liza. I opened the door in the passage and began listening.
"Liza! Liza!" I cried on the stairs, but in a low voice, not boldly.
There was no answer, but I fancied I heard her footsteps, lower down on the stairs.
"Liza!" I cried, more loudly.
No answer. But at that minute I heard the stiff outer glass door open heavily with a creak and slam violently, the sound echoed up the stairs.
She had gone. I went back to my room in hesitation. I felt horribly oppressed.
I stood still at the table, beside the chair on which she had sat and looked aimlessly before me. A minute passed, suddenly I started; straight before me on the table I saw.... In short, I saw a crumpled blue five-rouble note, the one I had thrust into her hand a minute before. It was the same note; it could be no other, there was no other in the flat. So she had managed to fling it from her hand on the table at the moment when I had dashed into the further corner.
Well! I might have expected that she would do that. Might I have expected it? No, I was such an egoist, I was so lacking in respect for my fellow-creatures that I could not even imagine she would do so. I could not endure it. A minute later I flew like a madman to dress, flinging on what I could at random and ran headlong after her. She could not have got two hundred paces away when I ran out into the street.
It was a still night and the snow was coming down in masses and falling almost perpendicularly, covering the pavement and the empty street as though with a pillow. There was no one in the street, no sound was to be heard. The street lamps gave a disconsolate and useless glimmer. I ran two hundred paces to the cross-roads and stopped short.
Where had she gone? And why was I running after her?
Why? To fall down before her, to sob with remorse, to kiss her feet, to entreat her forgiveness! I longed for that, my whole breast was being rent to pieces, and never, never shall I recall that minute with indifference. But—what for? I thought. Should I not begin to hate her, perhaps, even to-morrow, just because I had kissed her feet to-day? Should I give her happiness? Had I not recognized that day, for the hundredth time, what I was worth? Should I not torture her?
I stood in the snow, gazing into the troubled darkness and pondered this.
"And will it not be better?" I mused fantastically, afterwards at home, stifling the living pang of my heart with fantastic dreams. "Will it not be better that she should keep the resentment of the insult for ever? Resentment—why, it is purification; it is a most stinging and painful consciousness! To-morrow I should have defiled her soul and have exhausted her heart, while now the feeling of insult will never die in her heart, and however loathsome the filth awaiting her—the feeling of insult will elevate and purify her ... by hatred ... h’m! ... perhaps, too, by forgiveness.... Will all that make things easier for her though?..."
And, indeed, I will ask on my own account here, an idle question: which is better—cheap happiness or exalted sufferings? Well, which is better?
So I dreamed as I sat at home that evening, almost dead with the pain in my soul. Never had I endured such suffering and remorse, yet could there have been the faintest doubt when I ran out from my lodging that I should turn back half-way? I never met Liza again and I have heard nothing of her. I will add, too, that I remained for a long time afterwards pleased with the phrase about the benefit from resentment and hatred in spite of the fact that I almost fell ill from misery.
* * * * *
Even now, so many years later, all this is somehow a very evil memory. I have many evil memories now, but ... hadn’t I better end my "Notes" here? I believe I made a mistake in beginning to write them, anyway I have felt ashamed all the time I’ve been writing this story; so it’s hardly literature so much as a corrective punishment. Why, to tell long stories, showing how I have spoiled my life through morally rotting in my corner, through lack of fitting environment, through divorce from real life, and rankling spite in my underground world, would certainly not be interesting; a novel needs a hero, and all the traits for an anti-hero are expressly gathered together here, and what matters most, it all produces an unpleasant impression, for we are all divorced from life, we are all cripples, every one of us, more or less. We are so divorced from it that we feel at once a sort of loathing for real life, and so cannot bear to be reminded of it. Why, we have come almost to looking upon real life as an effort, almost as hard work, and we are all privately agreed that it is better in books. And why do we fuss and fume sometimes? Why are we perverse and ask for something else? We don’t know what ourselves. It would be the worse for us if our petulant prayers were answered. Come, try, give any one of us, for instance, a little more independence, untie our hands, widen the spheres of our activity, relax the control and we ... yes, I assure you ... we should be begging to be under control again at once. I know that you will very likely be angry with me for that, and will begin shouting and stamping. Speak for yourself, you will say, and for your miseries in your underground holes, and don’t dare to say all of us—excuse me, gentlemen, I am not justifying myself with that "all of us." As for what concerns me in particular I have only in my life carried to an extreme what you have not dared to carry half-way, and what’s more, you have taken your cowardice for good sense, and have found comfort in deceiving yourselves. So that perhaps, after all, there is more life in me than in you. Look into it more carefully! Why, we don’t even know what living means now, what it is, and what it is called? Leave us alone without books and we shall be lost and in confusion at once. We shall not know what to join on to, what to cling to, what to love and what to hate, what to respect and what to despise. We are oppressed at being men—men with a real individual body and blood, we are ashamed of it, we think it a disgrace and try to contrive to be some sort of impossible generalized man. We are stillborn, and for generations past have been begotten, not by living fathers, and that suits us better and better. We are developing a taste for it. Soon we shall contrive to be born somehow from an idea. But enough; I don’t want to write more from "Underground."
The notes of this paradoxalist do not end here, however. He could not refrain from going on with them, but it seems to us that we may stop here.
ЗАПИСКИ ИЗ ПОДПОЛЬЯ
I
ПОДПОЛЬЕ [i]
I
Я человек больной... Я злой человек. Непривлекательный я человек. Я думаю, что у меня болит печень. Впрочем, я ни шиша не смыслю в моей болезни и не знаю наверно, что у меня болит. Я не лечусь и никогда не лечился, хотя медицину и докторов уважаю. К тому же я еще и суеверен до крайности; ну, хоть настолько, чтоб уважать медицину. (Я достаточно образован, чтоб не быть суеверным, но я суеверен.) Нет-с, я не хочу лечиться со злости. Вот этого, наверно, не изволите понимать. Ну-с, а я понимаю. Я, разумеется, не сумею вам объяснить, кому именно я насолю в этом случае моей злостью; я отлично хорошо знаю, что и докторам я никак не смогу "нагадить" тем, что у них не лечусь; я лучше всякого знаю, что всем этим я единственно только себе поврежу и никому больше. Но все-таки, если я не лечусь, так это со злости. Печенка болит, так вот пускай же ее еще крепче болит!
Я уже давно так живу - лет двадцать. Теперь мне сорок. Я прежде служил, а теперь не служу. Я был злой чиновник. Я был груб и находил в этом удовольствие. Ведь я взяток не брал, стало быть, должен же был себя хоть этим вознаградить. (Плохая острота; но я ее не вычеркну. И ее написал, думая, что выйдет очень остро; а теперь, как увидел сам, что хотел только гнусно пофорсить, - нарочно не вычеркну!) Когда к столу, у которого я сидел, подходили, бывало, просители за справками, - я зубами на них скрежетал и чувствовал неумолимое наслаждение, когда удавалось кого-нибудь огорчить. Почти всегда удавалось. Большею частию все был народ робкий: известно-просители. Но из фертов я особенно терпеть не мог одного офицера. Он никак не хотел покориться и омерзительно гремел саблей. У меня с ним полтора года за эту саблю война была. Я наконец одолел. Он перестал греметь. Впрочем, это случилось еще в моей молодости. Но знаете ли, господа, в чем состоял главный пункт моей злости? Да в том-то и состояла вся штука, в том-то и заключалась наибольшая гадость, что я поминутно, даже в минуту самой сильнейшей желчи, постыдно сознавал в себе, что я не только не злой, но даже и не озлобленный человек, что я только воробьев пугаю напрасно и себя этим тешу. У меня пена у рта, а принесите мне какую-нибудь куколку, дайте мне чайку с сахарцем, я, пожалуй, и успокоюсь. Даже душой умилюсь, хоть уж, наверно, потом буду cам на себя скрежетать зубами и от стыда несколько месяцев страдать бессонницей. Таков уж мой обычай.
Это я наврал про себя давеча, что я был злой чиновник. Со злости наврал. Я просто баловством занимался и с просителями и с офицером, а в сущности никогда не мог сделаться злым. Я поминутно сознавал в себе много-премного самых противоположных тому элементов. Я чувствовал, что они так и кишат во мне, эти противоположные элементы. Я ахал, что они всю жизнь во мне кишели и из меня вон наружу просились, но я их не пускал, не пускал, нарочно не пускал наружу. Они мучили меня до стыда; до конвульсий меня доводили и - надоели мне наконец, как надоели! Уж не кажется ли вам, господа, что я теперь в чем-то перед вами раскаиваюсь, что я в чем-то у вас прощенья прошу?.. Я уверен, что вам это кажется... А впрочем, уверяю вас, что мне все равно, если и кажется...
Я не только злым, но даже и ничем не сумел сделаться:ни злым, ни добрым, ни подлецом. ни честным, ни героем, ни насекомым. Теперь же доживаю в своем углу, дразня себя злобным и ни к чему не служащим утешением, что умный человек и не может серьезно чем-нибудь сделаться, а делается чем-нибудь только дурак. Да-с, умный человек девятнадцатого столетия должен и нравственно обязан быть существом по преимуществу бесхарактерным; человек же с характером, деятель, - существом по преимуществу ограниченным. 3то сорокалетнее мое убеждение. Мне теперь сорок лет, а ведь сорок лет - это вся жизнь; ведь это самая глубокая старость. Дальше сорока лет жить неприлично, пошло, безнравственно! Кто живет дольше сорока лет, - отвечайте искренно, честно? Я вам скажу, кто живет: дураки и негодяи живут. Я всем старцам это в глаза скажу, всем этим почтенным старцам, всем этим сребровласым и благоухающим старцам! Всему свету в глаза скажу! Я имею право так говорить, потому что сам до шестидесяти лет доживу. До семидесяти лет проживу! До восьмидесяти лет проживу!.. Постойте! Дайте дух перевести...
Наверно, вы думаете, господа, что я вас смешить хочу? Ошиблись и в этом. Я вовсе не такой развеселый человек, как вам кажется или как вам, может быть, кажется; впрочем, если вы, раздраженные всей этой болтовней (а я уже чувствую, что вы раздражены), вздумаете спросить меня: кто ж я таков именно? - то я вам отвечу: я один коллежский асессор. Я служил, чтоб было что-нибудь есть (но единственно для этого), и когда прошлого года один из отдаленных моих родственников оставил мне шесть тысяч рублей по духовному завещанию, я тотчас же вышел в отставку и поселился у себя в углу. Я и прежде жил в этом углу, но теперь я поселился в этом углу. Комната моя дрянная, скверная, на краю города. Служанка моя - деревенская баба, старая, злая от глупости, и от нее к тому же всегда скверно пахнет. Мне говорят, что климат петербургский мне становится вреден и что с моими ничтожными средствами очень дорого в Петербурге жить. Я все это знаю, лучше всех этих опытных и премудрых советчиков и покивателей[2] знаю. Но я остаюсь в Петербурге; я не выеду из Петербурга! Я потому не выеду... Эх! да ведь это совершенно все равно - выеду я иль не выеду.
А впрочем: о чем может говорить порядочный человек с наибольшим удовольствием?
Ответ: о себе.
Ну так и я буду говорить о себе.
II
Мне теперь хочется рассказать вам, господа, желается иль не желается вам это слышать, почему я даже и насекомым не сумел сделаться. Скажу вам торжественно, что я много раз хотел сделаться насекомым. Но даже и этого не удостоился. Клянусь вам, господа, что слишком сознавать - это болезнь, настоящая, полная болезнь. Для человеческого обихода слишком было бы достаточно обыкновенного человеческого сознания, то есть в половину, в четверть меньше той порции, которая достается на долю развитого человека нашего несчастного девятнадцатого столетия и, сверх того, имеющего сугубое несчастье обитать в Петербурге, самом отвлеченном и умышленном городе на всем земном шаре. (Города бывают умышленные и неумышленные.) Совершенно было бы довольно, например, такого сознания, которым живут все так называемые непосредственные люди и деятели. Бьюсь об заклад, вы думаете, что я пишу все это из форсу, чтоб поострить насчет деятелей, да еще из форсу дурного тона гремлю саблей, как мой офицер. Но, господа, кто же может своими же болезнями тщеславиться, да еще ими форсить?
Впрочем, что ж я? - все это делают; болезнями-то и тщеславятся, а я, пожалуй, и больше всех. Не будем спорить; мое возражение нелепо. Но все-таки я крепко убежден, что не только очень много сознания, но даже и всякое сознание болезнь. Я стою на том. Оставим и это на минуту. Скажите мне вот что: отчего так бывало, что, как нарочно, в те самые, да, в те же самые минуты, в которые я наиболее способен был сознавать все тонкости "всего прекрасного и высокого", как говорили у нас когда-то, мне случалось уже не сознавать, а делать такие неприглядные деянья, такие, которые... ну да, одним словом, которые хоть и все, пожалуй, делают, но которые, как нарочно, приходились у меня именно тогда, когда я наиболее сознавал, что их совсем бы не надо делать? Чем больше я сознавал о добре и о всем этом "прекрасном и высоком", тем глубже я и опускался в мою тину и тем способнее был совершенно завязнуть в ней. Но главная черта была в том, что все это как будто не случайно во мне было, а как будто ему и следовало так быть. Как будто это было мое самое нормальное состояние, а отнюдь не болезнь и не порча, так что, наконец, у меня и охота прошла бороться с этой порчей. Кончилось тем, что я чуть не поверил (а может, и в самом деле поверил), что это, пожалуй, и есть нормальное мое состояние. А сперва-то, вначале-то, сколько я муки вытерпел в этой борьбе! Я не верил, чтоб так бывало с другими, и потому всю жизнь таил это про себя как секрет. Я стыдился (даже, может быть, и теперь стыжусь); до того доходил, что ощущал какое-то тайное, ненормальное, подленькое наслажденьице возвращаться, бывало, в иную гадчайшую петербургскую ночь к себе в угол и усиленно сознавать, что вот и сегодня сделал опять гадость, что сделанного опять-таки никак не воротишь, и внутренно, тайно, грызть, грызть себя за это зубами, пилить и сосать себя до того, что горечь обращалась наконец в какую-то позорную, проклятую сладость и наконец - в решительное, серьезное наслаждение! Да, в наслаждение, в наслаждение! Я стою на том. Я потому и заговорил, что мне все хочется наверно узнать: бывают ли у других такие наслаждения? Я вам объясню: наслаждение было тут именно от слишком яркого сознания своего унижения; оттого, что уж сам чувствуешь, что до последней стены дошел; что и скверно это, но что и нельзя тому иначе быть; что уж нет тебе выхода, что уж никогда не сделаешься другим человеком; что если б даже и оставалось еще время и вера, чтоб переделаться во что-нибудь другое, то, наверно, сам бы не захотел переделываться; а захотел бы, так и тут бы ничего не сделал, потому что на самом-то деле и переделываться-то, может быть, не во что. А главное и конец концов, что все это происходит по нормальным и основным законам усиленного сознания и по инерции, прямо вытекающей из этих законов, а следственно, тут не только не переделаешься, да и просто ничего не поделаешь. Выходит, например, вследствие усиленного сознания: прав, что подлец, как будто это подлецу утешение, коль он уже сам ощущает, что он действительно подлец. Но довольно... 3х, нагородил-то, а что объяснил?.. Чем объясняется тут наслаждение? Но я объяснюсь! Я-таки доведу до конца! Я и перо затем в руки взял...
Я, например, ужасно самолюбив. Я мнителен и обидчив, как горбун или карлик, но, право, бывали со мною такие минуты, что если б случилось, что мне бы дали пощечину, то, может быть, я был бы даже и этому рад. Говорю серьезно: наверно, я бы сумел отыскать и тут своего рода наслаждение, разумеется, наслаждение отчаяния, но в отчаянии-то и бывают самые жгучие наслаждения, особенно когда уж очень сильно сознаешь безвыходность своего положения. А тут при пощечине-то - да тут так и придавит сознание о том, в какую мазь тебя растерли. Главное же, как ни раскидывай, а все-таки выходит, что всегда я первый во всем виноват выхожу и, что всего обиднее, без вины виноват и, так сказать, по законам природы. Потому, во-первых, виноват, что я умнее всех, которые меня окружают. (Я постоянно считал себя умнее всех, которые меня окружают, и иногда, поверите ли, даже этого совестился. По крайней мере, я всю жизнь смотрел как-то в сторону и никогда не мог смотреть людям прямо в глаза.) Потому, наконец, виноват, что если б и было во мне великодушие, то было бы только мне же муки больше от сознания всей его бесполезности. Я ведь, наверно, ничего бы не сумел сделать из моего великодушия: ни простить, потому что обидчик, может, ударил меня по законам природы, а законов природы нельзя прощать; ни забыть, потому что хоть и законы природы, а все-таки обидно. Наконец, если б даже я захотел быть вовсе невеликодушным, а напротив, пожелал бы отмстить обидчику, то я и отмстить ни в чем никому бы не мог, потому что, наверно, не решился бы что-нибудь сделать, если б даже и мог. Отчего не решился бы? Об этом мне хочется сказать два слова особо.
III
Ведь у людей, умеющих за себя отомстить и вообще за себя постоять, - как это, например, делается? Ведь их как обхватит, положим, чувство мести, так уж ничего больше во всем их существе на это время и не останется, кроме этого чувства. Такой господин так и прет прямо к цели, как взбесившийся бык, наклонив вниз рога, и только разве стена его останавливает. (Кстати: перед стеной такие господа, то есть непосредственные люди и деятели, искренно пасуют. Для них стена - не отвод, как например для нас, людей думающих, а следственно, ничего не делающих; не предлог воротиться с дороги, предлог, в который наш брат обыкновенно и сам не верит, но которому всегда очень рад. Нет, они пасуют со всею искренностью. Стена имеет для них что-то успокоительное, нравственно-разрешающее и окончательное, пожалуй, даже что-то мистическое... Но об стене после. )Ну-с, такого-то вот непосредственного человека я и считаю настоящим, нормальным человеком, каким хотела его видеть сама нежная мать - природа, любезно зарождая его на земле. Я такому человеку до крайней желчи завидую. Он глуп, я в этом с вами не спорю, но, может быть, нормальный человек и должен быть глуп, почему вы знаете? Может быть, это даже очень красиво. И я тем более убежден в злом, так сказать, подозрении, что если, например, взять антитез нормального человека, то есть человека усиленно сознающего, вышедшего, конечно, не из лона природы, а из реторты (это уже почти мистицизм, господа, но я подозреваю и это), то этот ретортный человек до того иногда пасует перед своим антитезом, что сам себя, со всем своим усиленным сознанием, добросовестно считает за мышь, а не за человека. Пусть это и усиленно сознающая мышь, но все-таки мышь, а тут человек, а следственно..., и проч. И, главное, он сам, сам ведь считает себя за мышь; его об этом никто не просит; а это важный пункт. Взглянем же теперь на эту мышь в действии. Положим, например, она тоже обижена (а она почти всегда бывает обижена) и тоже желает отомстить. Злости-то в ней, может, еще и больше накопится, чем в l’homme de la nature et de la verite[3]. Гадкое, низкое желаньице воздать обидчику тем же злом, может, еще и гаже скребется в ней, чем в l’homme de la nature et de la verite, потому что l’homme de la nature et de la verite, по своей врожденной глупости, считает свое мщенье просто-запросто справедливостью; а мышь, вследствие усиленного сознания, отрицает тут справедливость. Доходит наконец до самого дела, до самого акта отмщения. Несчастная мышь кроме одной первоначальной гадости успела уже нагородить кругом себя, в виде вопросов и сомнений, столько других гадостей; к одному вопросу подвела столько неразрешенных вопросов, что поневоле кругом нее набирается какая-то роковая бурда, какая-то вонючая грязь, состоящая из ее сомнений, волнений и, наконец, из плевков, сыплющихся на нее от непосредственных деятелей, предстоящих торжественно кругом в виде судей и диктаторов и хохочущих над нею во всю здоровую глотку. Разумеется, ей остается махнуть на все своей лапкой и с улыбкой напускного презренья, которому и сама она не верит, постыдно проскользнуть в свою щелочку. Там, в своем мерзком, вонючем подполье, наша обиженная, прибитая и осмеянная мышь немедленно погружается в холодную, ядовитую и, главное, вековечную злость. Сорок лет сряду будет припоминать до последних, самых постыдных подробностей свою обиду и при этом каждый раз прибавлять от себя подробности еще постыднейшие, злобно поддразнивая и раздражая себя собственной фантазией. Сама будет стыдиться своей фантазии, но все-таки все припомнит, все переберет, навыдумает на себя небывальщины, под предлогом, что она тоже могла случиться, и ничего не простит. Пожалуй, и мстить начнет, но как-нибудь урывками, мелочами, из-за печки, инкогнито, не веря ни своему праву мстить, ни успеху своего мщения и зная наперед, что от всех своих попыток отомстить сама выстрадает во сто раз больше того, кому мстит, а тот, пожалуй, и не почешется. На смертном одре опять-таки все припомнит, с накопившимися за все время процентами и... Но именно вот в этом холодном, омерзительном полуотчаянии, полувере, в этом сознательном погребении самого себя заживо с горя, в подполье на сорок лет, в этой усиленно созданной и все-таки отчасти сомнительной безвыходности своего положения, во всем этом яде неудовлетворенных желаний, вошедших внутрь, во всей этой лихорадке колебаний, принятых навеки решений и через минуту опять наступающих раскаяний - и заключается сок того странного наслаждения, о котором я говорил. Оно до того тонкое, до того иногда не поддающееся сознанью, что чуть-чуть ограниченные люди или даже просто люди с крепкими нервами не поймут в нем ни единой черты. "Может, еще и те не поймут, - прибавите вы от себя, осклабляясь, - которые никогда не получали пощечин", - и таким образом вежливо намекнете мне, что я в мою жизнь, может быть, тоже испытал пощечину, а потому и говорю как знаток. Бьюсь об заклад, что вы это думаете. Но успокойтесь, господа, я не получал пощечин, хотя мне совершенно все равно, как бы вы об этом ни думали. Я, может быть, еще сам-то жалею, что в мою жизнь мало роздал пощечин. Но довольно, ни слова больше об этой чрезвычайно для вас интересной теме.
Продолжаю спокойно о людях с крепкими нервами, не понимающих известной утонченности наслаждений. Эти господа при иных казусах, например, хотя и ревут, как быки, во все горло, хоть это, положим, и приносит им величайшую честь, но, как уже сказал я, перед невозможностью они тотчас смиряются. Невозможность - значит каменная стена? Какая каменная стена? Ну, разумеется, законы природы, выводы естественных наук, математика. Уж как докажут тебе, например, что от обезьяны произошел, так уж и нечего морщиться, принимай как есть. Уж как докажут тебе, что, в сущности, одна капелька твоего собственного жиру тебе должна быть дороже ста тысяч тебе подобных и что в этом результате разрешатся под конец все так называемые добродетели и обязанности и прочие бредни и предрассудки, так уж так и принимай, нечего делать-то, потому дважды два - математика. Попробуйте возразить.
"Помилуйте, - закричат вам, - восставать нельзя: это дважды два четыре! Природа вас не спрашивается; ей дела нет до ваших желаний и до того, нравятся ль вам ее законы или не нравятся. Вы обязаны принимать ее так, как она есть, а следственно, и все ее результаты. Стена, значит, и есть стена... и т. д., и т. д.". Господи боже, да какое мне дело до законов природы и арифметики, когда мне почему-нибудь эти законы и дважды два четыре не нравятся? Разумеется, я не пробью такой стены лбом, если и в самом деле сил не будет пробить, но я и не примирюсь с ней потому только, что у меня каменная стена и у меня сил не хватило.
Как будто такая каменная стена и вправду есть успокоение и вправду заключает в себе хоть какое-нибудь слово на мир, единственно только потому, что она дважды два четыре. О нелепость нелепостей! То ли дело все понимать, все сознавать, все невозможности и каменные стены; не примиряться ни с одной из этих невозможностей и каменных стен, если вам мерзит примиряться; дойти путем самых неизбежных логических комбинаций до самых отвратительных заключений на вечную тему о том, что даже и в каменной-то стене как будто чем-то сам виноват, хотя опять-таки до ясности очевидно, что вовсе не виноват, и вследствие этого, молча и бессильно скрежеща зубами, сладострастно замереть в инерции, мечтая о том, что даже и злиться, выходит, тебе не на кого; что предмета не находится, а может быть, и никогда не найдется, что тут подмен, подтасовка, шулерство, что тут просто бурда, - неизвестно что и неизвестно кто, но, несмотря на все эти неизвестности и подтасовки, у вас все-таки болит, и чем больше вам неизвестно, тем больше болит!
IV
– Ха-ха-ха! да вы после этого и в зубной боли отыщете наслаждение! - вскрикнете вы со смехом.
– А что ж? и в зубной боли есть наслаждение, - отвечу я. - У меня целый месяц болели зубы; я знаю, что есть. Тут, конечно, не молча злятся, а стонут; но это стоны не откровенные, это стоны с ехидством, а в ехидстве-то и вся штука. В этих-то стонах и выражается наслаждение страдающего; не ощущал бы он в них наслаждения - он бы и стонать не стал. 3то хороший пример, господа, и я его разовью. В этих стонах выражается, во-первых, вся для нашего сознания унизительная бесцельность вашей боли; вся законность природы, на которую вам, разумеется, наплевать, но от которой вы все-таки страдаете, а она-то нет. Выражается сознание, что врага у вас не находится, а что боль есть; сознание, что вы, со всевозможными Вагенгеймами[4], вполне в рабстве у ваших зубов; что захочет кто-то, и перестанут болеть ваши зубы, а не захочет, так и еще три месяца проболят; и что, наконец, если вы все еще несогласны и все-таки протестуете, то вам остается для собственного утешения только самого себя высечь или прибить побольнее кулаком вашу стену, а более решительно ничего. Ну-с, вот от этих-то кровавых обид, вот от этих-то насмешек, неизвестно чьих, и начинается наконец наслаждение, доходящее иногда до высшего сладострастия. Я вас прошу, господа, прислушайтесь когда-нибудь к стонам образованного человека девятнадцатого столетия, страдающего зубами, этак на второй или на третий день болезни, когда он начинает уже не так стонать, как в первый день стонал, то есть не просто оттого, что зубы болят; не так, как какой-нибудь грубый мужик, а так, как человек тронутый развитием и европейской цивилизацией стонет, как человек, "отрешившийся от почвы и народных начал", как теперь выражаются. Стоны его становятся какие-то скверные, пакостно-злые и продолжаются по целым дням и ночам. И ведь знает сам, что никакой себе пользы не принесет стонами; лучше всех знает, что он только напрасно себя и других надрывает и раздражает; знает, что даже и публика, перед которой он старается, и все семейство его уже прислушались к нему с омерзением, не верят ему ни на грош и понимают про себя, что он мог бы иначе, проще стонать, без рулад и без вывертов, а что он только так со злости, с ехидства балуется. Ну так вот в этих-то всех сознаниях и позорах и заключается сладострастие. "Дескать, я вас беспокою, сердце вам надрываю, всем в доме спать не даю. Так вот не спите же, чувствуйте же и вы каждую минуту, что у меня зубы болят. Я для вас уж теперь не герой, каким прежде хотел казаться, а просто гаденький человек, шенапан[ii]. Ну так пусть же! Я очень рад, что вы меня раскусили. Вам скверно слушать мои подленькие стоны? Ну так пусть скверно; вот я вам сейчас еще скверней руладу сделаю..." Не понимаете и теперь, господа? Нет, видно, надо глубоко доразвиться и досознаться, чтоб понять все изгибы этого сладострастия! Вы смеетесь? Очень рад-с. Мои шутки, господа, конечно, дурного тона, неровны, сбивчивы, с самонедоверчивостью. Но ведь это оттого, что я сам себя не уважаю. Разве сознающий человек может сколько-нибудь себя уважать?
V
Ну разве можно, разве можно хоть сколько-нибудь уважать себя человеку, который даже в самом чувстве собственного унижения посягнул отыскать наслаждение? Я не от приторного какого-нибудь раскаянья так теперь говорю. Да и вообще терпеть я не мог говорить: "Простите, папаша, вперед не буду", - не потому, чтоб я не способен был это сказать, а напротив, может быть, именно потому, что уж слишком способен на это бывал, да еще как? Как нарочно и влопаюсь, бывало, в таком случае, когда сам ни сном, ни духом не виноват. Это уже было всего гаже. При этом я опять-таки душою умилялся, раскаивался, слезы проливал и, конечно, самого себя надувал, хоть и вовсе не притворялся. Сердце уж тут как-то гадило... Тут уж даже и законов природы нельзя было обвинить, хотя все-таки законы природы постоянно и более всего всю жизнь меня обижали. Гадко это все вспоминать, да и тогда гадко было. Ведь через минуту какую-нибудь я уже с злобою соображаю, бывало, что все это ложь, ложь, отвратительная напускная ложь, то есть все эти раскаяния, все эти умиления, все эти обеты возрождения. А спросите, для чего я так сам себя коверкал и мучил? Ответ: затем, что скучно уж очень было сложа руки сидеть; вот и пускался на выверты. Право, так. 3амечайте получше сами за собой, господа, тогда и поймете, что это так. Сам себе приключения выдумывал и жизнь сочинял, чтоб хоть как-нибудь да пожить. Сколько раз мне случалось - ну, хоть, например, обижаться, так, не из-за чего, нарочно; и ведь сам знаешь, бывало, что не из-за чего обиделся, напустил на себя, но до того себя доведешь, что под конец, право, и в самом деле обидишься. Меня как-то всю жизнь тянуло такие штуки выкидывать, так что уж я стал под конец и в себе не властен. Другой раз влюбиться насильно захотел, даже два раза. Страдал ведь, господа, уверяю вас. В глубине-то души не верится, что страдаешь, насмешка шевелится, а все-таки страдаю, да еще настоящим, заправским образом; ревную, из себя выхожу... И все от скуки, господа, все от скуки; инерция задавила. Ведь прямой, законный, непосредственный плод сознания - это инерция, то есть сознательное сложа-руки-сиденье. Я уж об этом упоминал выше. Повторяю, усиленно повторяю: все непосредственные люди и деятели потому и деятельны, что они тупы и ограничены. Как это объяснить? А вот как: они вследствие своей ограниченности ближайшие и второстепенные причины за первоначальные принимают, таким образом скорее и легче других убеждаются, что непреложное основание своему делу нашли, ну и успокоиваются; а ведь это главное. Ведь чтоб начать действовать, нужно быть совершенно успокоенным предварительно, и чтоб сомнений уж никаких не оставалось. Ну а как я, например, себя успокою? Где у меня первоначальные причины, на которые я упрусь, где основания? Откуда я их возьму? Я упражняюсь в мышлении, а следственно, у меня всякая первоначальная причина тотчас же тащит за собою другую, еще первоначальнее, и так далее в бесконечность. Такова именно сущность всякого сознания и мышления. Это уже опять, стало быть, законы природы. Что же наконец в результате? Да то же самое. Вспомните: давеча вот я говорил о мщении. (Вы, верно, не вникли.) Сказано: человек мстит, потому что находит в этом справедливость. Значит, он первоначальную причину нашел, основание нашел, а именно: справедливость. Стало быть, он со всех сторон успокоен, а следственно, и отмщает спокойно и успешно, будучи убежден, что делает честное и справедливое дело. А ведь я справедливости тут не вижу, добродетели тоже никакой не нахожу, а следственно, если стану мстить, то разве только из злости. Злость, конечно, могла бы все пересилить, все мои сомнения, и, стало быть. могла бы совершенно успешно послужить вместо первоначальной причины именно потому, что она не причина. Но что же делать, если у меня и злости нет (я давеча ведь с этого и начал). 3лоба у меня опять-таки вследствие этих проклятых законов сознания химическому разложению подвергается. Смотришь - предмет улетучивается, резоны испаряются, виновник не отыскивается, обида становится не обидой, а фатумом, чем-то вроде зубной боли, в которой никто не виноват, а следовательно, остается опять-таки тот же самый выход - то есть стену побольнее прибить. Ну и рукой махнешь, потому что не нашел первоначальной причины. А попробуй увлекись своим чувством слепо, без рассуждений, без первоначальной причины, отгоняя сознание хоть на это время; возненавидь или полюби, чтоб только не сидеть сложа руки. Послезавтра, это уж самый поздний срок, самого себя презирать начнешь за то, что самого себя зазнамо надул. В результате: мыльный пузырь и инерция. О господа, ведь я, может, потому только и считаю себя за умного человека, что всю жизнь ничего не мог ни начать, ни окончить. Пусть, пусть я болтун, безвредный, досадный болтун, как и все мы. Но что же делать, если прямое и единственное назначение всякого умного человека есть болтовня, то есть умышленное пересыпанье из пустого в порожнее.
VI
О, если б я ничего не делал только из лени. Господи, как бы я тогда себя уважал. Уважал бы именно потому, что хоть лень я в состоянии иметь в себе; хоть одно свойство было бы во мне как будто и положительное, в котором я бы и сам был уверен. Вопрос: кто такой? Ответ: лентяй; да ведь это преприятно было бы слышать о себе. Значит, положительно определен, значит, есть что сказать обо мне. "Лентяй!" - да ведь это званье и назначенье, это карьера-с. Не шутите, это так. Я тогда член самого первейшего клуба по праву и занимаюсь только тем, что беспрерывно себя уважаю. Я знал господина, который всю жизнь гордился тем, что знал толк в лафите. Он считал это за положительное свое достоинство и никогда не сомневался в себе. Он умер не то что с покойной, а с торжествующей совестью, и был совершенно прав. А я бы себе тогда выбрал карьеру: я был бы лентяй и обжора, но не простой, а, например, сочувствующий всему прекрасному и высокому. Как вам это нравится? Мне это давно мерещилось. Это "прекрасное и высокое" сильно-таки надавило мне затылок в мои сорок лет; но это в мои сорок лет, а тогда - о, тогда было бы иначе! Я бы тотчас же отыскал себе и соответствующую деятельность, - а именно: пить за здоровье всего прекрасного и высокого. Я бы придирался ко всякому случаю, чтоб сначала пролить в свой бокал слезу, а потом выпить его за все прекрасное и высокое. Я бы все на свете обратил тогда в прекрасное и высокое; в гадчайшей, бесспорной дряни отыскал бы прекрасное и высокое. Я сделался бы слезоточив, как мокрая губка. Художник, например, написал картину Ге. Тотчас же пью за здоровье художника, написавшего картину Ге, потому что люблю все прекрасное и высокое. Автор написал "как кому угодно"; тотчас же пью за здоровье "кого угодно", потому что люблю все "прекрасное и высокое". Уважения к себе за это потребую, преследовать буду того, кто не будет мне оказывать уважения. Живу спокойно, умираю торжественно, - да ведь это прелесть, целая прелесть! И такое себе отрастил бы я тогда брюхо, такой тройной подбородок соорудил, такой бы сандальный нос себе выработал, что всякий встречный сказал бы, смотря на меня: "Вот так плюс! вот так уж настоящее положительное!" А ведь как хотите, такие отзывы преприятно слышать в наш отрицательный век, господа.
VII
Но все это золотые мечты. О, скажите, кто это первый объявил, кто первый провозгласил, что человек потому только делает пакости, что не знает настоящих своих интересов; а что, если б его просветить, открыть ему глаза на его настоящие, нормальные интересы, то человек тотчас же перестал бы делать пакости, тотчас же стал бы добрым и благородным, потому что, будучи просвещенным и понимая настоящие свои выгоды, именно увидел бы в добре собственную свою выгоду, а известно, что ни один человек не может действовать зазнамо против собственных своих выгод, следственно, так сказать, по необходимости стал бы делать добро? О младенец! о чистое, невинное дитя! да когда же, во-первых, бывало, во все эти тысячелетия, чтоб человек действовал только из одной своей собственной выгоды? Что же делать с миллионами фактов, свидетельствующих о том, как люди зазнамо, то есть вполне понимая свои настоящие выгоды, отставляли их на второй план и бросались на другую дорогу, на риск, на авось, никем и ничем не принуждаемые к тому, а как будто именно только не желая указанной дороги, и упрямо, своевольно пробивали другую, трудную, нелепую, отыскивая ее чуть не в потемках. Ведь, значит, им действительно это упрямство и своеволие было приятнее всякой выгоды... Выгода! Что такое выгода? Да и берете ли вы на себя совершенно точно определить, в чем именно человеческая выгода состоит? А что если так случится, что человеческая выгода иной раз не только может, но даже и должна именно в том состоять, чтоб в ином случае себе худого пожелать, а не выгодного? А если так, если только может быть этот случай, то все правило прахом пошло. Как вы думаете, бывает ли такой случай? Вы смеетесь; смейтесь, господа, но только отвечайте: совершенно ли верно сосчитаны выгоды человеческие? Нет ли таких, которые не только не уложились, но и не могут уложиться ни в какую классификацию? Ведь вы, господа, сколько мне известно, весь ваш реестр человеческих выгод взяли средним числом из статистических цифр и из научно-экономических формул. Ведь ваши выгоды - это благоденствие, богатство, свобода, покой, ну и так далее, и так далее; так что человек, который бы, например, явно и зазнамо вошел против всего этого реестра, был бы, по-вашему, ну да и, конечно, по-моему, обскурант или совсем сумасшедший, так ли? Но ведь вот что удивительно: отчего это так происходит, что все эти статистики, мудрецы и любители рода человеческого, при исчислении человеческих выгод, постоянно одну выгоду пропускают? Даже и в расчет ее не берут в том виде, в каком ее следует брать, а от этого и весь расчет зависит. Беда бы не велика, взять бы ее, эту выгоду, да и занесть в список. Но в том-то и пагуба, что эта мудреная выгода ни в какую классификацию не попадает, ни в один список не умещается. У меня, например, есть приятель... Эх, господа! да ведь и вам он приятель; да и кому, кому он не приятель! Приготовляясь к делу, этот господин тотчас же изложит вам, велеречиво и ясно, как именно надо ему поступить по законам рассудка и истины. Мало того: с волнением и страстью будет говорить вам о настоящих, нормальных человеческих интересах; с насмешкой укорит близоруких глупцов, не понимающих ни своих выгод, ни настоящего значения добродетели; и - ровно через четверть часа, без всякого внезапного, постороннего повода, а именно по чему-то такому внутреннему, что сильнее всех его интересов, - выкинет совершенно другое колено, то есть явно пойдет против того, об чем сам говорил: и против законов рассудка, и против собственной выгоды, ну, одним словом, против всего... Предупрежду, что мой приятель - лицо собирательное, и потому только его одного винить как-то трудно. То-то и есть, господа, не существует ли и в самом деле нечто такое, что почти всякому человеку дороже самых лучших его выгод, или (чтоб уж логики не нарушать) есть одна такая самая выгодная выгода (именно пропускаемая-то, вот об которой сейчас говорили), которая главнее и выгоднее всех других выгод и для которой человек, если понадобится, готов против всех законов пойти, то есть против рассудка, чести, покоя, благоденствия, - одним словом, против всех этих прекрасных и полезных вещей, лишь бы только достигнуть этой первоначальной, самой выгодной выгоды, которая ему дороже всего.
– Ну, так все-таки выгоды же, - перебиваете вы меня. - Позвольте-с, мы еще объяснимся, да и не в каламбуре дело, а в том, что эта выгода именно тем и замечательна, что все наши классификации разрушает и все системы, составленные любителями рода человеческого для счастья рода человеческого, постоянно разбивает. Одним словом, всему мешает. Но прежде чем я вам назову эту выгоду, я хочу себя компрометировать лично и потому дерзко объявляю, что все эти прекрасные системы, все эти теории разъяснения человечеству настоящих, нормальных его интересов с тем, чтоб оно, необходимо стремясь достигнуть этих интересов, стало бы тотчас же добрым и благородным, - покамест, по моему мненью, одна логистика! Да-с, логистика! Ведь утверждать хоть эту теорию обновления всего рода человеческого посредством системы его собственных выгод, ведь это, по-моему, почти то же... ну хоть утверждать, например, вслед за Боклем[5], что от цивилизации человек смягчается, следственно, становится менее кровожаден и менее способен к войне. По логике-то, кажется, у него и так выходит. Но до того человек пристрастен к системе и к отвлеченному выводу, что готов умышленно исказить правду, готов видом не видать и слыхом не слыхать, только чтоб оправдать свою логику. Потому и беру этот пример, что это слишком яркий пример. Да оглянитесь кругом: кровь рекою льется, да еще развеселым таким образом, точно шампанское. Вот вам все наше девятнадцатое столетие, в котором жил и Бокль. Вот вам Наполеон - и великий, и теперешний. Вот вам Северная Америка - вековечный союз. Вот вам, наконец, карикатурный Шлезвиг-Гольштейн... И что такое смягчает в нас цивилизация? Цивилизация выработывает в человеке только многосторонность ощущений и... решительно ничего больше. А через развитие этой многосторонности человек еще, пожалуй, дойдет до того, что отыщет в крови наслаждение. Ведь это уж и случалось с ним. Замечали ли вы, что самые утонченные кровопроливцы почти сплошь были самые цивилизованные господа, которым все эти разные Атиллы[6] да Стеньки Разины[7] иной раз в подметки не годились, и если они не так ярко бросаются в глаза, как Атилла и Стенька Разин, так это именно потому, что они слишком часто встречаются, слишком обыкновенны, примелькались. По крайней мере, от цивилизации человек стал если не более кровожаден, то уже, наверно, хуже, гаже кровожаден, чем прежде. Прежде он видел в кровопролитии справедливость и с покойною совестью истреблял кого следовало; теперь же мы хоть и считаем кровопролитие гадостью, а все-таки этой гадостью занимаемся, да еще больше, чем прежде. Что хуже? - сами решите. Говорят, Клеопатра[8] (извините за пример из римской истории) любила втыкать золотые булавки в груди своих невольниц и находила наслаждение в их криках и корчах. Вы скажете, что это было во времена, говоря относительно, варварские; что и теперь времена варварские, потому что (тоже говоря относительно) и теперь булавки втыкаются; что и теперь человек хоть и научился иногда видеть яснее, чем во времена варварские, но еще далеко не приучился поступать так, как ему разум и науки указывают. Но все-таки вы совершенно уверены, что он непременно приучится, когда совсем пройдут кой-какие старые, дурные привычки и когда здравый смысл и наука вполне перевоспитают и нормально направят натуру человеческую. Вы уверены, что тогда человек и сам перестанет добровольно ошибаться и, так сказать, поневоле не захочет роднить свою волю с нормальными своими интересами. Мало того: тогда, говорите вы, сама наука научит человека (хоть это уж и роскошь, по-моему), что ни воли, ни каприза на самом-то деле у него и нет, да и никогда не бывало, а что он сам не более, как нечто вроде фортепьянной клавиши[9] или органного штифтика; и что, сверх того, на свете есть еще законы природы; так что все, что он ни делает, делается вовсе не по его хотенью, а само собою, по законам природы. Следственно, эти законы природы стоит только открыть, и уж за поступки свои человек отвечать не будет и жить ему будет чрезвычайно легко. Все поступки человеческие, само собою, будут расчислены тогда по этим законам, математически, вроде таблицы логарифмов, до 108 000, и занесены в календарь; или еще лучше того, появятся некоторые благонамеренные издания, вроде теперешних энциклопедических лексиконов, в которых все будет так точно исчислено и обозначено, что на свете уже не будет более ни поступков, ни приключений.
Тогда-то, - это всё вы говорите, - настанут новые экономические отношения, совсем уж готовые и тоже вычисленные с математическою точностью, так что в один миг исчезнут всевозможные вопросы, собственно потому, что на них получатся всевозможные ответы. Тогда выстроится хрустальный дворец[10]. Тогда... Ну, одним словом, тогда прилетит птица Каган[11]. Конечно, никак нельзя гарантировать (это уж я теперь говорю), что тогда не будет, например, ужасно скучно (потому что что ж и делать-то, когда все будет расчислено по табличке), зато все будет чрезвычайно благоразумно. Конечно, от скуки чего не выдумаешь! Ведь и золотые булавки от скуки втыкаются, но это бы все ничего. Скверно то (это опять-таки я говорю), что чего доброго, пожалуй, и золотым булавкам тогда обрадуются. Ведь глуп человек, глуп феноменально. То есть он хоть и вовсе не глуп, но уж зато неблагодарен так, что поискать другого, так не найти. Ведь я, например, нисколько не удивлюсь, если вдруг ни с того ни с сего среди всеобщего будущего благоразумия возникнет какой-нибудь джентльмен с неблагородной или, лучше сказать, с ретроградной и насмешливою физиономией, упрет руки в боки и скажет нам всем: а что, господа, не столкнуть ли нам все это благоразумие с одного разу, ногой, прахом, единственно с тою целью, чтоб все эти логарифмы отправились к черту и чтоб нам опять по своей глупой воле пожить! Это бы еще ничего, но обидно то, что ведь непременно последователей найдет: так человек устроен. И все это от самой пустейшей причины, об которой бы, кажется, и упоминать не стоит: именно оттого, что человек, всегда и везде, кто бы он ни был, любил действовать так, как хотел, а вовсе не так, как повелевали ему разум и выгода; хотеть же можно и против собственной выгоды, а иногда и положительно должно (это уж моя идея). Свое собственное, вольное и свободное хотенье, свой собственный, хотя бы самый дикий каприз, своя фантазия, раздраженная иногда хоть бы даже до сумасшествия, - вот это-то все и есть та самая, пропущенная, самая выгодная выгода, которая ни под какую классификацию не подходит и от которой все системы и теории постоянно разлетаются к черту. И с чего это взяли все эти мудрецы, что человеку надо какого-то нормального, какого-то добродетельного хотения? С чего это непременно вообразили они, что человеку надо непременно благоразумно выгодного хотенья? Человеку надо - одного только самостоятельного хотенья, чего бы эта самостоятельность ни стоила и к чему бы ни привела. Ну и хотенье ведь черт знает...
VIII
– Ха-ха-ха! да ведь хотенья-то, в сущности, если хотите, и нет! - прерываете вы с хохотом. - Наука даже о сю пору до того успеха разанатомировать человека, что уж и теперь нам известно, что хотенье и так называемая свободная воля есть не что иное, как...
– Постойте, господа, я и сам так начать хотел. Я, признаюсь, даже испугался. Я только что хотел было прокричать, что хотенье ведь черт знает от чего зависит и что это, пожалуй, и слава богу, да вспомнил про науку-то и... оселся. А вы тут и заговорили. Ведь в самом деле, ну, если вправду найдут когда-нибудь формулу всех наших хотений и капризов, то есть от чего они зависят, по каким именно законам происходят, как именно распространяются, куда стремятся в таком-то и в таком-то случае и проч., и проч., то есть настоящую математическую формулу, - так ведь тогда человек тотчас же, пожалуй, и перестанет хотеть, да еще, пожалуй, и наверно перестанет. Ну что за охота хотеть по табличке? Мало того: тотчас же обратится он из человека в органный штифтик или вроде того; потому, что же такое человек без желаний, без воли и без хотений, как не штифтик в органном вале? Как вы думаете? Сосчитаем вероятности, - может это случиться или нет?
– Гм... - решаете вы, - наши хотенья большею частию бывают ошибочны от ошибочного взгляда на наши выгоды. Мы потому и хотим иногда чистого вздору, что в этом вздоре видим, по глупости нашей, легчайшую дорогу к достижению какой-нибудь заранее предположенной выгоды. Ну, а когда все это будет растолковано, расчислено на бумажке (что очень возможно, потому что гнусно же и бессмысленно заранее верить, что иных законов природы человек никогда не узнает), то тогда, разумеется, не будет так называемых желаний. Ведь если хотенье стакнется когда-нибудь совершенно с рассудком, так ведь уж мы будем тогда рассуждать, а не хотеть собственно потому, что ведь нельзя же, например, сохраняя рассудок, хотеть бессмыслицы и таким образом зазнамо идти против рассудка и желать себе вредного... А так как все хотенья и рассуждения могут быть действительно вычислены, потому что когда-нибудь откроют же законы так называемой нашей свободной воли, то, стало быть, и, кроме шуток, может устроиться что-нибудь вроде таблички, так что мы и действительно хотеть будем по этой табличке. Ведь если мне, например, когда-нибудь, расчислят и докажут, что если я показал такому-то кукиш, так именно потому, что не мог не показать и что непременно таким-то пальцем должен был его показать, так что же тогда во мне свободного-то останется, особенно если я ученый и где-нибудь курс наук кончил? Ведь я тогда вперед всю мою жизнь на тридцать лет рассчитать могу; одним словом, если и устроится это, так ведь нам уж нечего будет делать; все равно надо будет принять. Да и вообще мы должны, не уставая, повторять себе, что непременно в такую-то минуту и в таких-то обстоятельствах природа нас не спрашивается; что нужно принимать ее так, как она есть, а не так, как мы фантазируем, и если мы действительно стремимся к табличке и к календарю, ну, и... ну хоть бы даже и к реторте, то что же делать, надо принять и реторту! не то она сама, без вас примется...
– Да-с, но вот тут-то для меня и запятая! Господа, вы меня извините, что я зафилософствовался; тут сорок лет подполья! позвольте пофантазировать. Видите ли-с: рассудок, господа, есть вещь хорошая, это бесспорно, но рассудок есть только рассудок и удовлетворяет только рассудочной способности человека, а хотенье есть проявление всей жизни, то есть всей человеческой жизни, и с рассудком, и со всеми почесываниями. И хоть жизнь наша в этом проявлении выходит зачастую дрянцо, но все-таки жизнь, а не одно только извлечение квадратного корня. Ведь я, например, совершенно естественно хочу жить для того, чтоб удовлетворить всей моей способности жить, а не для того, чтоб удовлетворить одной только моей рассудочной способности, то есть какой-нибудь одной двадцатой доли всей моей способности жить. Что знает рассудок? Рассудок знает только то, что успел узнать (иного, пожалуй, и никогда не узнает; это хоть и не утешение, но отчего же этого и не высказать?), а натура человеческая действует вся целиком, всем, что в ней есть, сознательно и бессознательно, и хоть врет, да живет. Я подозреваю, господа, что вы смотрите на меня с сожалением; вы повторяете мне, что не может просвещенный и развитой человек, одним словом, такой, каким будет будущий человек, зазнамо захотеть чего-нибудь для себя невыгодного, что это математика. Совершенно согласен, действительно математика. Но повторяю вам в сотый раз, есть один только случай, только один, когда человек может нарочно, сознательно пожелать себе даже вредного, глупого, даже глупейшего, а именно: чтоб иметь право пожелать себе даже и глупейшего и не быть связанным обязанностью желать себе одного только умного. Ведь это глупейшее, ведь это свой каприз, и в самом деле, господа, может быть всего выгоднее для нашего брата из всего, что есть на земле, особенно в иных случаях. А в частности, может быть выгоднее всех выгод даже и в таком случае, если приносит нам явный вред и противоречит самым здравым заключениям нашего рассудка о выгодах, - потому что во всяком случае сохраняет нам самое главное и самое дорогое, то есть нашу личность и нашу индивидуальность. Иные вот утверждают, что это и в самом деле всего для человека дороже; хотенье, конечно, может, если хочет, и сходиться с рассудком, особенно если не злоупотреблять этим, а пользоваться умеренно; это и полезно и даже иногда похвально. Но хотенье очень часто и даже большею частию совершенно и упрямо разногласит с рассудком и... и... и знаете ли, что и это полезно и даже иногда очень похвально? Господа, положим, что человек не глуп. (Действительно, ведь никак нельзя этого сказать про него, хоть бы по тому одному, что если уж он будет глуп, так ведь кто же тогда будет умен?) Но если и не глуп, то все-таки чудовищно неблагодарен! Неблагодарен феноменально. Я даже думаю, что самое лучшее определение человека - это: существо на двух ногах и неблагодарное. Но это еще не все; это еще не главный недостаток его; главнейший недостаток его - это постоянное неблагонравие, постоянное, начиная от Всемирного потопа до Шлезвиг-Гольштейнского периода судеб человеческих. Неблагонравие, а следственно, и неблагоразумие; ибо давно известно, что неблагоразумие не иначе происходит, как от неблагонравия. Попробуйте же бросьте взгляд на историю человечества; ну, что вы увидите? Величественно? Пожалуй, хоть и величественно; уж один колосс Родосский[12], например, чего стоит! Недаром же г-н Анаевский свидетельствует о нем, что одни говорят, будто он есть произведение рук человеческих; другие же утверждают, что он создан самою природою. Пестро? Пожалуй, хоть и пестро; разобрать только во все века и у всех народов одни парадные мундиры на военных и статских - уж одно это чего стоит, а с вицмундирами и совсем можно ногу сломать; ни один историк не устоит. Однообразно? Ну, пожалуй, и однообразно: дерутся да дерутся, и теперь дерутся, и прежде дрались, и после дрались, - согласитесь, что это даже уж слишком однообразно. Одним словом, все можно сказать о всемирной истории, все, что только самому расстроенному воображению в голову может прийти. Одного только нельзя сказать, - что благоразумно. На первом слове поперхнетесь. И даже вот какая тут штука поминутно встречается: постоянно ведь являются в жизни такие благонравные и благоразумные люди, такие мудрецы и любители рода человеческого, которые именно задают себе целью всю жизнь вести себя как можно благонравнее и благоразумнее, так сказать, светить собой ближним, собственно для того, чтоб доказать им, что действительно можно на свете прожить и благонравно, и благоразумно. И что ж? Известно, многие из этих любителей, рано ли, поздно ли, под конец жизни изменяли себе, произведя какой-нибудь анекдот, иногда даже из самых неприличнейших. Теперь вас спрошу: чего же можно ожидать от человека как от существа, одаренного такими странными качествами? Да осыпьте его всеми земными благами, утопите в счастье совсем с головой, так, чтобы только пузырьки вскакивали на поверхности счастья, как на воде; дайте ему такое экономическое довольство, чтоб ему совсем уж ничего больше не оставалось делать, кроме как спать, кушать пряники и хлопотать о непрекращении всемирной истории, - так он вам и тут, человек-то, и тут, из одной неблагодарности, из одного пасквиля мерзость сделает. Рискнет даже пряниками и нарочно пожелает самого пагубного вздора, самой неэкономической бессмыслицы, единственно для того, чтобы ко всему этому положительному благоразумию примешать свой пагубный фантастический элемент. Именно свои фантастические мечты, свою пошлейшую глупость пожелает удержать за собой единственно для того, чтоб самому себе подтвердить (точно это так уж очень необходимо), что люди все еще люди, а не фортепьянные клавиши, на которых хоть и играют сами законы природы собственноручно, но грозят до того доиграться, что уж мимо календаря и захотеть ничего нельзя будет. Да ведь мало того: даже в том случае, если он действительно бы оказался фортепьянной клавишей, если б это доказать ему даже естественными науками и математически, так и тут не образумится, а нарочно напротив что-нибудь сделает, единственно из одной неблагодарности; собственно чтоб настоять на своем. А в том случае, если средств у него не окажется, - выдумает разрушение и хаос, выдумает разные страдания и настоит-таки на своем! Проклятие пустит по свету, а так как проклинать может только один человек (это уж его привилегия, главнейшим образом отличающая его от других животных), так ведь он, пожалуй, одним проклятием достигнет своего, то есть действительно убедится, что он человек, а не фортепьянная клавиша! Если вы скажете, что и это все можно рассчитать по табличке, и хаос, и мрак, и проклятие, так уж одна возможность предварительного расчета все остановит и рассудок возьмет свое, - так человек нарочно сумасшедшим на этот случай сделается, чтоб не иметь рассудка и настоять на своем! Я верю в это, я отвечаю за это, потому что ведь все дело-то человеческое, кажется, и действительно в том только и состоит, чтоб человек поминутно доказывал себе, что он человек, а не штифтик! хоть своими боками, да доказывал; хоть троглодитством, да доказывал. А после этого как не согрешить, не похвалить, что этого еще нет и что хотенье покамест еще черт знает от чего зависит...
Вы кричите мне (если только еще удостоите меня вашим криком), что ведь тут никто с меня воли не снимает; что тут только и хлопочут как-нибудь так устроить, чтоб воля моя сама, своей собственной волей, совпадала с моими нормальными интересами, с законами природы и с арифметикой.
– Эх, господа, какая уж тут своя воля будет, когда дело доходит до таблички и до арифметики, когда будет одно только дважды два четыре в ходу? Дважды два и без моей воли четыре будет. Такая ли своя воля бывает!
IX
Господа, я, конечно, шучу, и сам знаю, что неудачно шучу, но ведь и нельзя же все принимать за шутку. Я, может быть, скрыпя зубами шучу. Господа, меня мучат вопросы; разрешите их мне. Вот вы, например, человека от старых привычек хотите отучить и волю его исправить, сообразно с требованиями науки и здравого смысла. Но почему вы знаете, что человека не только можно, но и нужно так переделывать? из чего вы заключаете, что хотенью человеческому так необходимо надо исправиться? Одним словом, почему вы знаете, что такое исправление действительно принесет человеку выгоду? И, если уж все говорить, почему вы так наверно убеждены, что не идти против настоящих, нормальных выгод, гарантированных доводами разума и арифметикой, действительно для человека всегда выгодно и есть закон для всего человечества? Ведь это покамест еще только одно ваше предположение. Положим, что это закон логики, но, может быть, вовсе не человечества. Вы, может быть, думаете, господа, что я сумасшедший? Позвольте оговориться. Я согласен: человек есть животное, по преимуществу созидающее, принужденное стремиться к цели сознательно и заниматься инженерным искусством, то есть вечно и беспрерывно дорогу себе прокладывать хотя куда бы то ни было. Но вот именно потому-то, может быть, ему и хочется иногда вильнуть в сторону, что он присужден пробивать эту дорогу, да еще, пожалуй, потому, что как ни глуп непосредственный деятель вообще, но все-таки ему иногда приходит на мысль, что дорога-то, оказывается, почти всегда идет куда бы то ни было и что главное дело не в том, куда она идет, а в том, чтоб она только шла и чтоб благонравное дитя, пренебрегая инженерным искусством, не предавалось губительной праздности, которая, как известно, есть мать всех пороков. Человек любит созидать и дороги прокладывать, это бесспорно. Но отчего же он до страсти любит тоже разрушение и хаос? Вот это скажите-ка! Но об этом мне самому хочется заявить два слова особо. Не потому ли, может быть, он так любит разрушение и хаос (ведь это бесспорно, что он иногда очень любит, это уж так), что сам инстинктивно боится достигнуть цели и довершить созидаемое здание? Почем вы знаете, может быть, он здание-то любит только издали, а отнюдь не вблизи; может быть, он только любит созидать его, а не жить в нем, предоставляя его потом aux animaux domestiques[iii], как-то муравьям, баранам и проч., и проч. Вот муравьи совершенно другого вкуса. У них есть одно удивительное здание в этом же роде, навеки нерушимое, - муравейник.
С муравейника достопочтенные муравьи начали, муравейником, наверно, и кончат, что приносит большую честь их постоянству и положительности. Но человек существо легкомысленное и неблаговидное и, может быть, подобно шахматному игроку, любит только один процесс достижения цели, а не самую цель. И кто знает (поручиться нельзя), может быть, что и вся-то цель на земле, к которой человечество стремится, только и заключается в одной этой беспрерывности процесса достижения, иначе сказать - в самой жизни, а не собственно в цели, которая, разумеется, должна быть не иное что, как дважды два четыре, то есть формула, а ведь дважды два четыре есть уже не жизнь, господа, а начало смерти. По крайней мере человек всегда как-то боялся этого дважды два четыре, а я и теперь боюсь. Положим, человек только и делает, что отыскивает эти дважды два четыре, океаны переплывает, жизнью жертвует в этом отыскивании, но отыскать, действительно найти, - ей-богу, как-то боится. Ведь он чувствует, что как найдет, так уж нечего будет тогда отыскивать. Работники, кончив работу, по крайней мере деньги получат, в кабачок пойдут, потом в часть попадут, - ну вот и занятия на неделю. А человек куда пойдет? По крайней мере каждый раз замечается в нем что-то неловкое при достижении подобных целей. Достижение он любит, а достигнуть уж и не совсем, и это, конечно, ужасно смешно. Одним словом, человек устроен комически; во всем этом, очевидно, заключается каламбур. Но дважды два четыре - все-таки вещь пренесносная. Дважды два четыре - ведь это, по моему мнению, только нахальство-с. Дважды два четыре смотрит фертом, стоит поперек вашей дороги руки в боки и плюется. Я согласен, что дважды два четыре - превосходная вещь; но если уже все хвалить, то и дважды два пять - премилая иногда вещица.
И почему вы так твердо, так торжественно уверены, что только одно нормальное и положительное, - одним словом, только одно благоденствие человеку выгодно? Не ошибается ли разум-то в выгодах? Ведь, может быть, человек любит не одно благоденствие? Может быть, он ровно настолько же любит страдание? Может быть, страдание-то ему ровно настолько же и выгодно, как благоденствие? А человек иногда ужасно любит страдание, до страсти, и это факт. Тут уж и со всемирной историей справляться нечего; спросите себя самого, если только вы человек и хоть сколько-нибудь жили. Что же касается до моего личного мнения, то любить только одно благоденствие даже как-то и неприлично. Хорошо ли, дурно ли, но разломать иногда что-нибудь тоже очень приятно. Я ведь тут собственно не за страдание стою, да и не за благоденствие. Стою я... за свой каприз и за то, чтоб он был мне гарантирован, когда понадобится. Страдание, например, в водевилях не допускается, я это знаю. В хрустальном дворце оно и немыслимо: страдание есть сомнение, есть отрицание, а что за хрустальный дворец, в котором можно усумниться? А между тем я уверен, что человек от настоящего страдания, то есть от разрушения и хаоса, никогда не откажется. Страдание - да ведь это единственная причина сознания. Я хоть и доложил вначале, что сознание, по-моему, есть величайшее для человека несчастие, но я знаю, что человек его любит и не променяет ни на какие удовлетворения. Сознание, например, бесконечно выше, чем дважды два. После дважды двух уж, разумеется, ничего не останется, не только делать, но даже и узнавать. Все, что тогда можно будет, это - заткнуть свои пять чувств и погрузиться в созерцание. Ну, а при сознании хоть и тот же результат выходит, то есть тоже будет нечего делать, но по крайней мере самого себя иногда можно посечь, а это все-таки подживляет. Хоть и ретроградно, а все же лучше, чем ничего.
X
Вы верите в хрустальное здание, навеки нерушимое, то есть в такое, которому нельзя будет ни языка украдкой выставить, ни кукиша в кармане показать. Ну, а я, может быть, потому-то и боюсь этого здания, что оно хрустальное и навеки нерушимое и что нельзя будет даже и украдкой языка ему выставить.
Вот видите ли: если вместо дворца будет курятник и пойдет дождь, я, может быть, и влезу в курятник, чтоб не замочиться, но все-таки курятника не приму за дворец из благодарности, что он меня от дождя сохранил. Вы смеетесь, вы даже говорите, что в этом случае курятник и хоромы - все равно. Да, - отвечаю я, - если б надо было жить только для того, чтоб не замочиться.
Но что же делать, если я забрал себе в голову, что живут и не для одного этого и что если уж жить, так уж жить в хоромах. Это мое хотение, это желание мое. Вы его выскоблите из меня только тогда, когда перемените желания мои. Ну, перемените, прельстите меня другим, дайте мне другой идеал. А покамест я уж не приму курятника за дворец. Пусть даже так будет, что хрустальное здание есть пуф, что по законам природы его и не полагается и что я выдумал его только вследствие моей собственной глупости, вследствие некоторых старинных, нерациональных привычек нашего поколения. Но какое мне дело, что его не полагается. Не все ли равно, если он существует в моих желаниях, или, лучше сказать, существует, пока существуют мои желания? Может быть, вы опять смеетесь? Извольте смеяться; я все насмешки приму и все-таки не скажу, что я сыт, когда я есть хочу; все-таки знаю, что я не успокоюсь на компромиссе, на беспрерывном периодическом нуле, потому только, что он существует по законам природы и существует действительно. Я не приму за венец желаний моих - капитальный дом, с квартирами для бедных жильцов по контракту на тысячу лет и на всякий случай с зубным врачом Вагенгеймом на вывеске. Уничтожьте мои желания, сотрите мои идеалы, покажите мне что-нибудь лучше, и я за вами пойду. Вы, пожалуй, скажете, что не стоит и связываться; но в таком случае ведь и я вам могу тем же ответить. Мы рассуждаем серьезно; а не хотите меня удостоить вашим вниманием, так ведь кланяться не буду. У меня есть подполье.
А покамест я еще живу и желаю, - да отсохни у меня рука, коль я хоть один кирпичик на такой капитальный дом принесу! Не смотрите на то, что я давеча сам хрустальное здание отверг, единственно по той причине, что его нельзя будет языком подразнить. Я это говорил вовсе не потому, что уж так люблю мой язык выставлять. Я, может быть, на то только и сердился, что такого здания, которому бы можно было и не выставлять языка, из всех ваших зданий до сих пор не находится. Напротив. я бы дал себе совсем отрезать язык, из одной благодарности, если б только устроилось так, чтоб мне самому уже более никогда не хотелось его высовывать. Какое мне дело до того, что так невозможно устроить и что надо довольствоваться квартирами. Зачем же я устроен с такими желаниями? Неужели ж я для того только и устроен, чтоб дойти до заключения, что все мое устройство одно надувание? Неужели в этом вся цель? Не верю.
А, впрочем, знаете что: я убежден, что нашего брата подпольного нужно в узде держать. Он хоть и способен молча в подполье сорок лет просидеть, но уж коль выйдет на свет да прорвется, так уж говорит, говорит, говорит...
XI
Конец концов, господа: лучше ничего не делать! Лучше сознательная инерция! Итак, да здравствует подполье! Я хоть и сказал, что завидую нормальному человеку до последней желчи, но на таких условиях, в каких я вижу его, не хочу им быть (хотя все-таки не перестану ему завидовать. Нет, нет, подполье во всяком случае выгоднее!) Там по крайней мере можно... Эх! да ведь я и тут вpу! Вру, потому что сам знаю, как дважды два, что вовсе не подполье лучше, а что-то другое, совсем другое, которого я жажду, но которого никак не найду! К черту подполье!
Даже вот что тут было бы лучше: это - если б я верил сам хоть чему-нибудь из всего того, что теперь написал. Клянусь же вам, господа, что я ни одному, ни одному-таки словечку не верю из того, что теперь настрочил! То есть я и верю, пожалуй, но в то же самое время, неизвестно почему, чувствую и подозреваю, что я вру как сапожник.
– Так для чего же писали все это? - говорите вы мне.
– А вот посадил бы я вас лет на сорок безо всякого занятия, да и пришел бы к вам через сорок лет, в подполье, наведаться, до чего вы дошли? Разве можно человека без дела на сорок лет одного оставлять?
– И это не стыдно, и это не унизительно! - может быть, скажете вы мне, презрительно покачивая головами. - Вы жаждете жизни и сами разрешаете жизненные вопросы логической путаницей. И как назойливы, как дерзки ваши выходки, и в то же время как вы боитесь! Вы говорите вздор и довольны им; вы говорите деpзости, а сами беспрерывно боитесь за них и просите извинения. Вы уверяете, что ничего не боитесь, и в то же время в нашем мнении заискиваете. Вы уверяете, что скрежещете зубами, и в то же время остpите, чтоб нас рассмешить. Вы знаете, что остроты ваши неостроумны, но вы, очевидно, очень довольны их литературным достоинством. Вам, может быть, действительно случалось страдать, но вы нисколько не уважаете своего страдания. В вас есть и правда, но в вас нет целомудрия; вы из самого мелкого тщеславия несете правду на показ, на позор, на рынок... Вы действительно хотите что-то сказать, но из боязни прячете ваше последнее слово, потому что у вас нет решимости его высказать, а только трусливое нахальство. Вы хвалитесь сознанием, но вы только колеблетесь, потому что хоть ум у вас и работает, но сердце ваше развратом помрачено, а без чистого сердца - полного, правильного сознания не будет. И сколько в вас назойливости, как вы напрашиваетесь, как вы кривляетесь! Ложь, ложь и ложь!
Разумеется, все эти ваши слова я сам теперь сочинил. Это тоже из подполья. Я там сорок лет сряду к этим вашим словам в щелочку прислушивался. Я их сам выдумал, ведь только это и выдумывалось. Не мудрено, что наизусть заучилось и литературную форму приняло...
Но неужели, неужели вы и в самом деле до того легковесны, что воображаете, будто я это все напечатаю да еще вам дам читать? И вот еще для меня задача: для чего, в самом деле, называю я вас "господами", для чего обращаюсь к вам, как будто и вправду к читателям? Таких признаний, какие я намерен начать излагать, не печатают и другим читать не дают. По крайней мере, я настолько твердости в себе не имею да и нужным не считаю иметь. Но видите ли: мне в голову пришла одна фантазия, и я во что бы ни стало ее хочу осуществить. Вот в чем дело:
Есть в воспоминаниях всякого человека такие вещи, которые он открывает не всем, а разве только друзьям. Есть и такие, которые он и друзьям не откроет, а разве только себе самому, да и то под секретом. Но есть, наконец, и такие, которые даже и себе человек открывать боится, и таких вещей у всякого порядочного человека довольно-таки накопится. То есть даже так: чем более он порядочный человек, тем более у него их и есть. По крайней мере, я сам только недавно решился припомнить иные мои прежние приключения, а до сих пор всегда обходил их, даже с каким-то беспокойством. Теперь же, когда я не только припоминаю, но даже решился записывать, теперь я именно хочу испытать: можно ли хоть с самим собой совершенно быть откровенным и не побояться всей правды? Замечу кстати: Гейне утверждает, что верные автобиографии почти невозможны, и человек сам об себе наверно налжет. По его мнению, Руссо, например, непременно налгал на себя в своей исповеди, и даже умышленно налгал, из тщеславия. Я уверен, что Гейне прав; я очень хорошо понимаю, как иногда можно единственно из одного тщеславия наклепать на себя целые преступления, и даже очень хорошо постигаю, какого рода может быть это тщеславие. Но Гейне судил о человеке, исповедовавшемся перед публикой. Я же пишу для одного себя и раз навсегда объявляю, что если я и пишу как бы обращаясь к читателям, то единственно только для показу, потому что так мне легче писать. Тут форма, одна пустая форма, читателей же у меня никогда не будет. Я уже объявил это...
Я ничем не хочу стесняться в редакции моих записок. Порядка и системы заводить не буду. Что припомнится, то и запишу.
Ну вот, например: могли бы придраться к слову и спросить меня: если вы действительно не рассчитываете на читателей, то для чего же вы теперь делаете с самим собой, да еще на бумаге, такие уговоры, то есть что порядка и системы заводить не будете, что запишете то, что припомнится, и т. д., и т. д.? К чему вы объясняетесь? К чему извиняетесь?
– А вот поди же, - отвечаю я.
Тут, впрочем, целая психология. Может быть, и то, что я просто трус. А может быть, и то, что я нарочно воображаю перед собой публику, чтоб вести себя приличнее, в то время когда буду записывать. Пpичин может быть тысяча.
Но вот что еще: для чего, зачем собственно я хочу писать? Если не для публики, так ведь можно бы и так, мысленно все припомнить, не переводя на бумагу.
Так-с; но на бумаге оно выйдет как-то торжественнее. В этом есть что-то внушающее, суда больше над собой будет, слогу прибавится. Кроме того: может быть, я от записывания действительно получу облегчение. Вот нынче, например, меня особенно давит одно давнишнее воспоминание. Припомнилось оно мне ясно еще на днях и с тех пор осталось со мною, как досадный музыкальный мотив, который не хочет отвязаться. А между тем надобно от него отвязаться. Таких воспоминаний у меня сотни; но по временам из сотни выдается одно какое-нибудь и давит. Я почему-то верю, что если я его запишу, то оно и отвяжется. Отчего ж не испробовать?
Наконец: мне скучно, а я постоянно ничего не делаю. Записыванье же действительно как будто работа. Говорят, от работы человек добрым и честным делается. Ну вот шанс по крайней мере.
Нынче идет снег, почти мокрый, желтый, мутный. Вчера шел тоже, на днях тоже шел. Мне кажется, я по поводу мокрого снега и припомнил тот анекдот, который не хочет теперь от меня отвязаться. Итак, пусть это будет повесть по поводу мокрого снега.
II
ПО ПОВОДУ МОКРОГО СНЕГА
Когда из мрака заблужденья
Горячим словом убеждения
Я душу падшую извлек,
И, вся полна глубокой муки,
Ты прокляла, ломая руки,
Тебя опутавший порок;
Когда забывчивую совесть
Воспоминанием казня,
Ты мне передавала повесть
Всего, что было до меня,
И вдруг, закрыв лицо руками,
Стыдом и ужасом полна,
Ты разрешилася слезами,
Возмущена, потрясена...
И т. д., и т. д., и т. д.
Из поэзии Н. А. Некpасова
I
В то время мне было всего двадцать четыре года. Жизнь моя была уж и тогда угрюмая, беспорядочная и до одичалости одинокая. Я ни с кем не водился и даже избегал говорить и все более и более забивался в свой угол. В должности, в канцелярии, я даже старался не глядеть ни на кого, и я очень хорошо замечал, что сослуживцы мои не только считали меня чудаком, но - все казалось мне и это - будто бы смотрели на меня с каким то омерзением. Мне приходило в голову: отчего это никому, кроме меня, не кажется, что смотрят на него с омерзением? У одного из наших канцелярских было отвратительное и прерябое лицо, и даже как будто разбойничье. Я бы, кажется, и взглянуть ни на кого не посмел с таким неприличным лицом. У другого вицмундир был до того заношенный, что близ него уже дурно пахло. А между тем ни один из этих господ не конфузился - ни по поводу платья, ни по поводу лица, ни как-нибудь там нравственно. Ни тот, ни другой не воображали, что смотрят на них с омерзением; да если б и воображали, так им было бы все равно, только бы не начальство взирать изволило. Теперь мне совершенно ясно, что я сам вследствие неограниченного моего тщеславия, а стало быть, и требовательности к самому себе, глядел на себя весьма часто с бешеным недовольством, доходившим до омерзения, а оттого, мысленно, и приписывал мой взгляд каждому. Я, например, ненавидел свое лицо, находил, что оно гнусно, и даже подозревал, что в нем есть какое-то подлое выражение, и потому каждый раз, являясь в должность, мучительно старался держать себя как можно независимее, чтоб не заподозрили меня в подлости, а лицом выражать как можно более благородства. "Пусть уж будет и некрасивое лицо, - думал я, - но зато пусть будет оно благородное, выразительное и, главное, чрезвычайно умное". Но я наверно и страдальчески знал, что всех этих совершенств мне никогда моим лицом не выразить. Но что всего ужаснее, я находил его положительно глупым. А я бы вполне помирился на уме. Даже так, что согласился бы даже и на подлое выражение, с тем только, чтоб лицо мое находили в то же время ужасно умным.
Всех наших канцелярских я, разумеется, ненавидел, с первого до последнего, и всех презирал, а вместе с тем как будто их и боялся. Случалось, что я вдруг даже ставил их выше себя. У меня как-то это вдруг тогда делалось: то презираю, то ставлю выше себя. Развитой и порядочный человек не может быть тщеславен без неограниченной требовательности к себе самому и не презирая себя в иные минуты до ненависти. Но, презирая ли, ставя ли выше, я чуть не перед каждым встречным опускал глаза. Я даже опыты делал: стерплю ли я взгляд вот хоть такого-то на себе, и всегда опускал я пеpвый. Это меня мучило до бешенства. До болезни тоже боялся я быть смешным и потому рабски обожал рутину во всем, что касалось наружного; с любовью вдавался в общую колею и всей душою пугался в себе всякой эксцентpичности. Но где мне было выдержать? Я был болезненно развит, как и следует быть развитым человеку нашего вpемени. Они же все были тупы и один на дpугого похожи как баpаны в стаде. Может быть, только мне одному во всей канцелярии постоянно казалось, что я был трус и раб; именно потому и казалось, что я был развит. Но оно не только казалось, а и действительно так было в самом деле: я был трус и раб. Говорю это без всякого конфуза. Всякий порядочный человек нашего времени есть и должен быть трус и раб. Это - нормальное его состояние. В этом я убежден глубоко. Он так сделан и на то устроен. И не в настоящее время, от каких-нибудь там случайных обстоятельств, а вообще во все времена порядочный человек должен быть трус и раб. Это закон природы всех порядочных людей на земле. Если и случится кому из них похрабриться над чем-нибудь, то пусть этим не утешается и не увлекается: все равно перед другим сбрендит. Таков единственный и вековечный выход. Храбрятся только ослы и их ублюдки, но ведь и те до известной стены. На них и внимания обращать не стоит, потому что они ровно ничего не означают.
Мучило меня тогда еще одно обстоятельство: именно то, что на меня никто не похож и я ни на кого не похож. "Я-то один, а они-то все", - думал я и - задумывался.
Из этого видно, что я был еще совсем мальчишка.
Случались и противоположности. Ведь уж как иногда гадко становилось ходить в канцелярию: доходило до того, что я много раз со службы возвращался больной. Но вдруг ни с того ни с сего наступает полоса скептицизма и равнодушия(у меня все было полосами), и вот я же сам смеюсь над моею нетерпимостью и брезгливостью, сам себя в романтизме упрекаю. То и говорить ни с кем не хочу, а то до того дойду, что не только разговорюсь, но еще вздумаю с ними сойтись по-приятельски. Вся брезгливость вдруг разом ни с того ни с сего исчезала. Кто знает, может быть, ее у меня никогда и не было, а была она напускная, из книжек? Я до сих пор этого вопроса еще не разрешил. Раз даже совсем подружился с ними, стал их дома посещать, в преферанс играть. водку пить, о производстве толковать... Но здесь позвольте мне сделать одно отступление.
У нас, русских, вообще говоря, никогда не было глупых надзвездных немецких и особенно французских романтиков, на которых ничего не действует, хоть земля под ними трещи, хоть погибай вся Франция на баррикадах, - они всё те же, даже для приличия не изменятся, и всё будут петь свои надзвездные песни, так сказать, по гроб своей жизни, потому что они дураки. У нас же, в русской земле, нет дураков; это известно; тем-то мы и отличаемся от прочих немецких земель. Следственно, и надзвездных натур не водится у нас в чистом их состоянии. Это всё наши "положительные" тогдашние публицисты и критики, охотясь тогда за Костанжоглами да за дядюшками Петрами Ивановичами[13] и сдуру приняв их за наш идеал, навыдумали на наших романтиков, сочтя их за таких же надзвездных, как в Германии или во Франции. Напротив, свойства нашего романтика совершенно и прямо противоположны надзвездно-европейскому, и ни одна европейская мерочка сюда не подходит. (Уж позвольте мне употреблять это слово: "романтик" - словечко старинное, почтенное, заслуженное и всем знакомое.) Свойства нашего романтика - это всё понимать, все видеть и видеть часто несравненно яснее, чем видят самые положительнейшие наши умы; ни с кем и ни с чем не примиряться, но в то же время ничем и не брезгать; все обойти, всему уступить, со всеми поступить политично; постоянно не терять из виду полезную, практическую цель (какие-нибудь там казенные квартирки, пенсиончики, звездочки) - усматривать эту цель через все энтузиазмы и томики лирических стишков и в то же время "и прекрасное и высокое" по гроб своей жизни в себе сохранить нерушимо, да и себя уже кстати вполне сохранить так таки в хлопочках, как ювелирскую вещицу какую-нибудь, хотя бы, например, для пользы того же "прекрасного и высокого". Широкий человек наш романтик и первейший плут из всех наших плутов, уверяю вас в том... даже по опыту. Разумеется, все это, если романтик умен. То есть что ж это я! романтик и всегда умен, я хотел только заметить, что хоть и бывали у нас дураки-романтики, но это не в счет и единственно потому, что они еще в цвете сил окончательно в немцев перерождались и, чтоб удобнее сохранить свою ювелирскую вещицу, поселялись там где-нибудь, больше в Веймаре, или в Шварцвальде. Я, например, искренно презирал свою служебную деятельность и не плевался только по необходимости, потому что сам там сидел и деньги за то получал. В результате же, заметьте, все-таки не плевался. Наш романтик скорей сойдет с ума(что, впрочем, очень редко бывает), а плеваться не станет, если другой карьеры у него в виду не имеется, и в толчки его никогда не выгонят, а разве свезут в сумасшедший дом в виде "испанского короля"[14], да и то если уж он очень с ума сойдет. Но ведь сходят у нас с ума только жиденькие и белокуренькие. Неисчетное же число романтиков - значительные чины впоследствии происходят. Многосторонность необыкновенная! И какая способность к самым противоречивейшим ощущениям! Я и тогда был этим утешен, да и теперь тех же мыслей. Оттого-то у нас так и много "широких натур", которые даже при самом последнем паденьи никогда не теряют своего идеала; и хоть и пальцем не пошевелят для идеала-то, хоть разбойники и воры отъявленные, а все-таки до слез свой первоначальный идеал уважают и необыкновенно в душе честны. Да-с, только между нами самый отъявленный подлец может быть совершенно и даже возвышенно честен в душе, в то же время нисколько не переставая быть подлецом. Повторяю, ведь сплошь да рядом из наших романтиков выходят иногда такие деловые шельмы (слово "шельмы" я употребляю любя), такое чутье действительности и знание положительного вдруг оказывают, что изумленное начальство и публика только языком на них в остолбенении пощелкивают.
Многосторонность поистине изумительная, и бог знает во что обратится она и выработается при последующих обстоятельствах и что сулит нам в нашем дальнейшем? А недурен матерьял-с! Не из патриотизма какого-нибудь, смешного или квасного, я так говорю. Впрочем, я уверен, вы опять думаете, что я смеюсь. А кто знает, может быть, и обратно, то есть уверены, что я и в самом деле так думаю. Во всяком случае, господа, оба мнения ваши я буду считать себе за честь и особенное удовольствие. А отступление мое мне простите.
С товарищами моими я, разумеется, дружества не выдерживал и очень скоро расплевывался и вследствие еще юной тогдашней неопытности даже и кланяться им переставал, точно отрезывал. Это, впрочем, со мной всего один раз и случилось. Вообще же я всегда был один.
Дома я, во-первых, всего больше читал. Хотелось заглушить внешними ощущениями все беспрерывно внутри меня накипавшее. А из внешних ощущений было для меня в возможности только одно чтение. Чтение, конечно, много помогало, - волновало, услаждало и мучило. Но по временам наскучало ужасно. Все-таки хотелось двигаться, и я вдруг погружался в темный, подземный, гадкий - не разврат, а развратишко. Страстишки во мне были острые, жгучие от всегдашней болезненной моей раздражительности. Порывы бывали истерические, со слезами и конвульсиями. Кроме чтения, идти было некуда, - то есть не было ничего, чтобы мог я тогда уважать в моем окружающем и к чему бы потянуло меня. Закипала, сверх того, тоска; являлась истерическая жажда противоречий, контрастов, и вот я и пускался развpатничать. Я ведь вовсе не для оправдания моего сейчас столько наговорил... А впрочем, нет! соврал! Я именно себя оправдать хотел. Это я для себя, господа, заметочку делаю. Не хочу лгать. Слово дал.
Развратничал я уединенно, по ночам, потаенно, боязливо, грязно, со стыдом, не оставлявшим меня в самые омерзительные минуты и даже доходившим в такие минуты до проклятия. Я уж и тогда носил в душе моей подполье. Боялся я ужасно, чтоб меня как-нибудь не увидали, не встретили, не узнали. Ходил же я по разным весьма темным местам.
Раз, проходя ночью мимо одного трактиришка, я увидел в освещенное окно, как господа киями подрались у биллиарда и как одного из них в окно спустили. В другое время мне бы очень мерзко стало; но тогда такая вдруг минута нашла, что я этому спущенному господину позавидовал, и до того позавидовал, что даже в трактир вошел, в биллиардную: "Авось, дескать, и я подерусь, и меня тоже из окна спустят".
Я не был пьян, но что прикажете делать, - до такой ведь истерики может тоска заесть! Но ничем обошлось. Оказалось, что я и в окно-то прыгнуть не способен, и я ушел не подравшись.
Осадил меня там с первого же шагу один офицер.
Я стоял у биллиарда и по неведению заслонял дорогу, а тому надо было пройти; он взял меня за плечи и молча, - не предуведомив и не объяснившись, - переставил меня с того места, где я стоял, на другое, а сам прошел как будто и не заметив. Я бы даже побои простил, но никак не мог простить того, что он меня переставил и так окончательно не заметил.
Черт знает что бы дал я тогда за настоящую, более правильную ссору, более приличную, более, так сказать, литературную! Со мной поступили как с мухой. Был этот офицер вершков десяти росту; я же человек низенький и истощенный. Ссора, впрочем, была в моих руках: стоило попротестовать, и, конечно, меня бы спустили в окно. Но я раздумал и предпочел... озлобленно стушеваться.
Вышел я из трактира смущенный и взволнованный, прямо домой, а на другой день продолжал мой развратик еще робче, забитее и грустнее, чем прежде, как будто со слезой на глазах, - а все-таки пpодолжал. Не думайте, впpочем, что я стpусил офицеpа от трусости: я никогда не был трусом в душе, хотя беспрерывно трусил на деле, но - подождите смеяться, на это есть объяснение; у меня на все есть объяснение, будьте уверены.
О, если б этот офицер был из тех, которые соглашались выходить на дуэль! Но нет, это был именно из тех господ (увы! давно исчезнувших), которые предпочитали действовать киями или, как поручик Пирогов[15] у Гоголя, - по начальству. На дуэль же не выходили, а с нашим братом, с штафиркой, считали бы дуэль во всяком случае неприличною, - да и вообще считали дуэль чем-то немыслимым, вольнодумным, французским, а сами обижали довольно, особенно в случае десяти вершков росту.
Струсил я тут не из трусости, а из безграничнейшего тщеславия. Я испугался не десяти вершков росту и не того, что меня больно прибьют и в окно спустят; физической храбрости, право, хватило бы; но нравственной храбрости недостало. Я испугался того, что меня все присутствующие, начиная с нахала маркера до последнего протухлого и угреватого чиновничишки, тут же увивавшегося, с воротником из сала, - не поймут и осмеют, когда я буду протестовать и заговорю с ними языком литературным. Потому что о пункте чести, то есть не о чести, а о пункте чести (point d’honneur), у нас до сих пор иначе ведь и разговаривать нельзя, как языком литературным. На обыкновенном языке о "пункте чести" не упоминается. Я вполне был уверен (чутье-то действительности, несмотря на весь романтизм!), что все они просто лопнут со смеха, а офицер не просто, то есть не безобидно, прибьет меня, а непременно коленком меня напинает, обведя таким манером вокруг биллиарда, и потом уж разве смилуется и в окно спустит. Разумеется, эта мизерная история только этим одним со мной не могла окончиться. Я часто потом встречал этого офицера на улице и хорошо его заприметил. Не знаю только, узнавал ли он меня. Должно быть, нет; заключаю по некоторым признакам. Но я-то, я, - смотрел на него со злобою и ненавистью, и так продолжалось... несколько лет-с! Злоба моя даже укреплялась и разрасталась с годами. Сначала я, потихоньку, начал разузнавать об этом офицере. Трудно мне это было, потому что я ни с кем не был знаком. Но однажды кто-то окликнул его по фамилии на улице, когда я издали шел за ним, точно привязанный к нему, и вот я фамилию узнал. Другой раз я проследил его до самой его квартиры и за гривенник узнал у дворника, где он живет, в каком этаже, один или с кем-нибудь и т. д. - одним словом, все, что можно узнать от дворника. Раз поутру, хоть я и никогда не литературствовал, мне вдруг пришла мысль описать этого офицера в абличительном виде, в карикатуре, в виде повести. Я с наслаждением писал эту повесть. Я абличил, даже поклеветал; фамилию я так подделал сначала, что можно было тотчас узнать, но потом, по зрелом рассуждении, изменил и отослал в "Отечественные записки". Но тогда еще не было абличений, и мою повесть не напечатали. Мне это было очень досадно. Иногда злоба меня просто душила. Наконец я решился вызвать противника моего на дуэль. Я сочинил к нему прекрасное, привлекательное письмо, умоляя его передо мной извиниться; в случае же отказа довольно твердо намекал на дуэль. Письмо было так сочинено, что если б офицер чуть-чуть понимал "прекрасное и высокое", то непременно бы прибежал ко мне, чтоб броситься мне на шею и предложить свою дружбу. И как бы это было хорошо! Мы бы так зажили! так зажили! Он бы защищал меня своей сановитостью; я бы облагораживал его своей развитостью, ну и... идеями, и много кой-чего бы могло быть! Вообразите, что тогда прошло уже два года, как он меня обидел, и вызов мой был безобразнейшим анахронизмом, несмотря на всю ловкость письма моего, объяснявшего и прикрывавшего анахронизм. Но, слава богу (до сих пор благодарю всевышнего со слезами), я письма моего не послал. Мороз по коже пробирает, как вспомню, что бы могло выйти, если б я послал. И вдруг... и вдруг я отомстил самым простейшим, самым гениальнейшим образом! Меня вдруг осенила пресветлая мысль. Иногда по праздникам я хаживал в четвертом часу на Невский и гулял по солнечной стороне. То есть я там вовсе не гулял, а испытывал бесчисленные мучения, унижения и разлития желчи; но того-то мне, верно, и надобно было. Я шмыгал, как вьюн, самым некрасивым образом, между прохожими, уступая беспрерывно дорогу то генералам, то кавалергардским и гусарским офицерам, то барыням; я чувствовал в эти минуты конвульсивные боли в сердце и жар в спине при одном представлении о мизере[iv] моего костюма, о мизере и пошлости моей шмыгающей фигурки. Это была мука-мученская, беспрерывное невыносимое унижение от мысли, переходившей в беспрерывное и непосредственное ощущение того, что я муха, перед всем этим светом, гадкая, непотребная муха, - всех умнее, всех развитее, всех благороднее, - это уж само собою, - но беспрерывно всем уступающая муха, всеми униженная и всеми оскорбленная. Для чего я набирал на себя эту муку, для чего я ходил на Невский - не знаю? но меня просто тянуло туда при каждой возможности.
Тогда уже я начинал испытывать приливы тех наслаждений, о которых я уже говорил в первой главе. После же истории с офицером меня еще сильнее туда стало тянуть: на Невском-то я его и встречал наиболее, там-то я и любовался им. Он тоже ходил туда более в праздники. Он хоть тоже сворачивал с дороги перед генералами и перед особами сановитыми и тоже вилял, как вьюн, между ними, но таких, как наш брат, или даже почище нашего брата, он просто давил; шел прямо на них, как будто перед ним было пустое пространство, и ни в каком случае дороги не уступал. Я упивался моей злобой, на него глядя, и... озлобленно перед ним каждый раз сворачивал. Меня мучило, что я даже и на улице никак не могу быть с ним на равной ноге. "Отчего ты непременно первый сворачиваешь? - приставал я сам к себе, в бешеной истерике, проснувшись иногда часу в третьем ночи. - Отчего именно ты, а не он? Ведь для этого закона нет, ведь это нигде не написано? Ну пусть будет поровну, как обыкновенно бывает, когда деликатные люди встречаются: он уступит половину, и ты половину, вы и пройдете, взаимно уважая друг друга". Но так не было, и все-таки сворачивал я, а он даже и не замечал, что я ему уступаю. И вот удивительнейшая мысль вдруг осенила меня."А что, - вздумал я, - что, если встретиться с ним и... не посторониться? Нарочно не посторониться, хоть бы даже пришлось толкнуть его: а, каково это будет?" Дерзкая мысль эта мало-помалу до того овладела мною, что не давала мне покоя. Мечтал я об этом беспрерывно, ужасно и нарочно чаще ходил на Невский, чтоб еще яснее себе представить, как я это сделаю, когда буду делать. Я был в восторге. Все более и более мне казалось это намерение и вероятным и возможным. "Разумеется, не совсем толкнуть, - думал я, уже заранее добрея от радости, - а так, просто не посторониться, состукнуться с ним, не так, чтобы очень больно, а так, плечо о плечо, ровно на столько, сколько определено приличием; так что на сколько он меня стукнет, на столько и я его стукну". Я решился наконец совершенно. Но приготовления взяли очень много времени. Первое то, что во время исполнения нужно было быть в более приличнейшем виде и позаботиться о костюме. "На всякий случай, если, например, завяжется публичная история (а публика-то тут суперфлю[v]: графиня ходит, князь Д. ходит, вся литература ходит), нужно быть хорошо одетым; это внушает и прямо поставит нас некоторым образом на равную ногу в глазах высшего общества". С этою целью я выпросил вперед жалованья и купил черные перчатки и порядочную шляпу у Чуркина. Черные перчатки казались мне и солиднее, и бонтоннее[vi], чем лимонные, на которые я посягал сначала. "Цвет слишком резкий, слишком как будто хочет выставиться человек", и я не взял лимонных. Хорошую рубашку, с белыми костяными запонками, я уж давно приготовил; но задержала очень шинель. Сама-то по себе шинель моя очень была недурна, грела; но она была на вате, а воротник был енотовый, что составляло уже верх лакейства. Надо было переменить воротник во что бы ни стало и завести бобрик, вроде как у офицеров. Для этого я стал ходить по Гостиному двору и после нескольких попыток нацелился на один дешевый немецкий бобрик. Эти немецкие бобрики хоть и очень скоро занашиваются и принимают мизернейший вид, но сначала, с обновки, смотрят даже и очень прилично; а ведь мне только для одного разу и надо было. Спросил я цену: все-таки было дорого. По основательном рассуждении я решился продать мой енотовый воротник. Недостающую же и весьма для меня значительную сумму решился выпросить взаймы у Антона Антоныча Сеточкина, моего столоначальника, человека смиренного, но серьезного и положительного, никому не дававшего взаймы денег, но которому я был когда-то, при вступлении в должность, особенно рекомендован определившим меня на службу значительным лицом. Мучился я ужасно. Попросить денег у Антона Антоныча мне казалось чудовищным и постыдным. Я даже две-три ночи не спал, да и вообще я тогда мало спал, был в лихорадке; сердце у меня как-то смутно замирало или вдруг начинало прыгать, прыгать, прыгать!.. Антон Антонович сначала удивился, потом поморщился, потом рассудил и все-таки дал взаймы, взяв с меня расписку на право получения данных заимообразно денег через две недели из жалованья. Таким образом, все было наконец готово; красивый бобрик воцарился на месте паскудного енота, и я начал помаленьку приступать к делу. Нельзя же было решиться с первого разу, зря; надо было это дело обделать умеючи, именно помаленьку. Но признаюсь, что после многократных попыток я даже было начал отчаиваться: не состукиваемся никак - да и только! Уж я ль приготовлялся, я ль не намеревался, - кажется, вот-вот сейчас состукнемся, смотрю - и опять я уступил дорогу, а он и прошел, не заметив меня. Я даже молитвы читал, подходя к нему, чтоб бог вселил в меня решимость. Один раз я было и совсем уже решился, но кончилось тем, что только попал ему под ноги, потому что в самое последнее мгновение, на двухвершковом каком-нибудь расстоянии, не хватило духу. Он преспокойно прошел по мне, и я, как мячик, отлетел в сторону. В эту ночь я был опять болен в лихорадке и бредил. И вдруг все закончилось как нельзя лучше. Накануне ночью я окончательно положил не исполнять моего пагубного намерения и все оставить втуне и с этою целью в последний раз я вышел на Невский, чтобы только так посмотреть, - как это я оставлю все это втуне? Вдруг, в трех шагах от врага моего, я неожиданно решился, зажмурил глаза и - мы плотно стукнулись плечо о плечо! Я не уступил ни вершка и прошел мимо совершенно на равной ноге! Он даже и не оглянулся и сделал вид, что не заметил; но он только вид сделал, я уверен в этом. Я до сих пор в этом уверен! Разумеется, мне досталось больше; он был сильнее, но не в том было дело. Дело было в том, что я достиг цели, поддержал достоинство, не уступил ни на шаг и публично поставил себя с ним на равной социальной ноге. Воротился я домой совершенно отмщенный за все. Я был в восторге. Я торжествовал и пел итальянские арии. Разумеется, я вам не буду описывать того, что произошло со мной через три дня; если читали мою первую главу "Подполье", то можете сами догадаться. Офицера потом куда-то перевели; лет уже четырнадцать я его теперь не видал. Что-то он теперь, мой голубчик? Кого давит?
II
Но кончалась полоса моего развратика, и мне становилось ужасно тошно. Наступало раскаяние, я его гнал: слишком уж тошнило. Мало-помалу я, однако же, и к этому привыкал. Я ко всему привыкал, то есть не то что привыкал, а как-то добровольно соглашался переносить. Но у меня был выход, все примирявший, это - спасаться во "все прекрасное и высокое", конечно, в мечтах. Мечтал я ужасно, мечтал по три месяца сряду, забившись в свой угол, и уж поверьте, что в эти мгновения я не похож был на того господина, который, в смятении куриного сердца, пришивал к воротнику своей шинели немецкий бобрик. Я делался вдруг героем. Моего десятивершкового поручика я бы даже и с визитом к себе тогда не пустил. Я даже и представить его себе не мог тогда. Что такое были мои мечты и как мог я ими довольствоваться - об этом трудно сказать теперь, но тогда я этим довольствовался. Впрочем, я ведь и теперь этим отчасти довольствуюсь. Мечты особенно слаще и сильнее приходили ко мне после развратика, приходили с раскаянием и слезами, с проклятиями и восторгами. Бывали мгновения такого положительного упоения, такого счастья, что даже малейшей насмешки внутри меня не ощущалось, ей-богу. Была вера, надежда, любовь. То-то и есть, что я слепо верил тогда, что каким-то чудом, каким-нибудь внешним обстоятельством все это вдруг раздвинется, расширится; вдруг представится горизонт соответственной деятельности, благотворной, прекрасной и, главное, совсем готовой (какой именно - я никогда не знал, но, главное, - совсем готовой), и вот я выступлю вдруг на свет божий, чуть ли не на белом коне и не в лавровом венке. Второстепенной роли я и понять не мог и вот именно потому-то в действительности очень спокойно занимал последнюю. Либо герой, либо грязь, средины не было. Это-то меня и сгубило, потому что в грязи я утешал себя тем, что в другое время бываю герой, а герой прикрывал собой грязь: обыкновенному, дескать, человеку стыдно грязниться, а герой слишком высок, чтоб совсем загрязниться, следственно, можно грязниться. Замечательно, что эти приливы "всего прекрасного и высокого" приходили ко мне и во время развратика, и именно тогда, когда я уже на самом дне находился, приходили так, отдельными вспышечками, как будто напоминая о себе, но не истребляли, однако ж, развратика своим появлением; напротив, как будто подживляли его контрастом и приходили ровно на столько, сколько было нужно для хорошего соуса. Соус тут состоял из противоречия и страдания, из мучительного внутреннего анализа, и все эти мученья и мученьица и придавали какую-то пикантность, даже смысл моему развратику, - одним словом, исполняли вполне должность хорошего соуса. Все это даже было не без некоторой глубины. Да и мог ли бы я согласиться на простой, пошлый, непосредственный, писарский развратишко и вынести на себе всю эту грязь! Что ж бы могло тогда в ней прельстить меня и выманить ночью на улицу?Нет-с, у меня была благородная лазейка на все...
Но сколько любви, господи, сколько любви переживал я, бывало, в этих мечтах моих, в этих "спасеньях во все прекрасное и высокое": хоть и фантастической любви, хоть и никогда ни к чему человеческому на деле не прилагавшейся, но до того было ее много, этой любви, что потом, на деле, уж и потребности даже не ощущалось ее прилагать: излишняя б уж это роскошь была. Все, впрочем, преблагополучно всегда оканчивалось ленивым и упоительным переходом к искусству, то есть к прекрасным формам бытия, совсем готовым, сильно украденным у поэтов и романистов и приспособленным ко всевозможным услугам и требованиям. Я, например, над всеми торжествую; все, разумеется, во прахе и принуждены добровольно признать все мои совершенства, а я всех их прощаю. Я влюбляюсь, будучи знаменитым поэтом и камергером; получаю несметные миллионы и тотчас же жертвую их на род человеческий[16] и тут же исповедываюсь перед всем народом в моих позорах, которые, разумеется, не просто позоры, а заключают в себе чрезвычайно много "прекрасного и высокого", чего-то манфредовского[17]. Все плачут и целуют меня (иначе что же бы они были за болваны), а а иду босой и голодный проповедовать новые идеи и разбиваю ретроградов под Аустерлицем. Затем играется марш, выдается амнистия, папа соглашается выехать из Рима в Бразилию; затем бал для всей Италии на вилле Боргезе, что на берегу озера Комо, так как озеро Комо нарочно переносится для этого случая в Рим; затем сцена в кустах и т. д., и т. д. - будто не знаете? Вы скажете, что пошло и подло выводить все это теперь на рынок, после стольких упоений и слез, в которых я сам признался. Отчего же подло-с? Неужели вы думаете, что я стыжусь всего этого и что все это было глупее хотя чего бы то ни было в вашей, господа, жизни? И к тому же поверьте, что у меня кой-что было вовсе недурно составлено... Не все же происходило на озере Комо. А впрочем, вы правы; действительно, и пошло и подло. А подлее всего то, что я теперь начал перед вами оправдываться. А еще подлее то, что я делаю теперь это замечание. Да довольно, впрочем, а то ведь никогда и не кончишь: все будет одно другого подлее...
Больше трех месяцев я никак не в состоянии был сряду мечтать и начинал ощущать непреодолимую потребность ринуться в общество. Ринуться в общество означало у меня сходить в гости к моему столоначальнику, Антону Антонычу Сеточкину. Это был единственный мой постоянный знакомый во всю мою жизнь, и я даже сам удивляюсь теперь этому обстоятельству. Но и к нему я ходил разве только тогда, когда уж наступала такая полоса, а мечты мои доходили до такого счастия, что надо было непременно и немедленно обняться с людьми и со всем человечеством; а для этого надо было иметь хоть одного человека в наличности, действительно существующего. К Антону Антонычу надо было, впрочем, являться по вторникам (его день), следственно, и подгонять потребность обняться со всем человечеством надо было всегда ко вторнику. Помещался этот Антон Антоныч у Пяти углов, в четвертом этаже и в четырех комнатках, низеньких и мал мала меньше, имевших самый экономический и желтенький вид. Были у него две дочери и их тетка, разливавшая чай. Дочкам - одной было тринадцать, а другой четырнадцать лет, обе были курносенькие, и я их ужасно конфузился, потому что они все шептались про себя и хихикали. Хозяин сидел обыкновенно в кабинете, на кожаном диване, перед столом, вместе с каким-нибудь седым гостем, чиновником из нашего или даже из постороннего ведомства. Больше двух-трех гостей, и все тех же самых, я никогда там не видывал. Толковали про акциз, про торги в Сенате, о жалованье, о производстве, о его превосходительстве, о средстве нравиться и проч., и проч. Я имел терпение высиживать подле этих людей дураком часа по четыре и их слушать, сам не смея и не умея ни об чем с ними заговорить. Я тупел, по нескольку раз принимался потеть, надо мной носился паралич; но это было хорошо и полезно. Возвратясь домой, я на некоторое время откладывал мое желание обняться со всем человечеством.
Был, впрочем, у меня и еще как будто один знакомый, Симонов, бывший мой школьный товарищ. Школьных товарищей у меня было, пожалуй, и много в Петербурге, но я с ними не водился и даже перестал на улице кланяться. Я, может быть, и на службу-то в другое ведомство перешел для того, чтоб не быть вместе с ними и разом отрезать со всем ненавистным моим детством. Проклятие на эту школу, на эти ужасные каторжные годы! Одним словом, с товарищами я тотчас же разошелся, как вышел на волю. Оставались два-три человека, с которыми я еще кланялся, встречаясь. В том числе был и Симонов, который в школе у нас ничем не отличался, был ровен и тих, но в нем я отличил некоторую независимость характера и даже честность. Даже не думаю, что он был очень уж ограничен. У меня с ним бывали когда-то довольно светлые минуты, но недолго продолжались и как-то вдруг задернулись туманом. Он, видимо, тяготился этими воспоминаниями и, кажется, все боялся, что я впаду в прежний тон. Я подозревал, что я был ему очень противен, но все-таки ходил к нему, не уверенный в том наверно.
Вот однажды, в четверг, не выдержав моего одиночества и зная, что в четверг у Антона Антоныча дверь заперта, я вспомнил о Симонове. Подымаясь к нему в четвертый этаж, я именно думал о том, что этот господин тяготится мною и что напрасно я это иду. Но так как кончалось всегда тем, что подобные соображения, как нарочно, еще более подбивали меня лезть в двусмысленное положение, то я и вошел. Был почти год, как я последний раз перед тем видел Симонова.
III
Я застал у него еще двух моих школьных товарищей. Они толковали, по-видимому, об одном важном деле. На приход мой ни один из них не обратил почти никакого внимания, что было даже странно, потому что я не видался с ними уж годы. Очевидно, меня считали чем-то вроде самой обыкновенной мухи. Так не третировали меня даже в школе, хотя все меня там ненавидели. Я, конечно, понимал, что они должны были презирать меня теперь за неуспех моей служебной карьеры и за то, что я уж очень опустился, ходил в дурном платье и проч. - что в их глазах составляло вывеску моей неспособности и мелкого значения. Но я все-таки не ожидал до такой степени презрения. Симонов даже удивился моему приходу. Он и прежде всегда как будто удивлялся моему приходу. Все это меня озадачило; я сел в некоторой тоске и начал слушать, о чем они толковали.
Шла речь серьезная и даже горячая о прощальном обеде, который хотели устроить эти господа завтра же, сообща, отъезжавшему далеко в губернию их товарищу Зверкову, служившему офицером. Мосье Зверков был все время и моим школьным товарищем. Я особенно стал его ненавидеть с высших классов. В низших классах он был только хорошенький, резвый мальчик, которого все любили. Я, впрочем, ненавидел его и в низших классах, и именно за то, что он был хорошенький и резвый мальчик. Учился он всегда постоянно плохо и чем дальше, тем хуже; однако ж вышел из школы удачно, потому что имел покровительство. В последний год его в нашей школе ему досталось наследство, двести душ, а так как у нас все почти были бедные, то он даже перед нами стал фанфаронить. Это был пошляк в высшей степени, но, однако ж, добрый малый, даже и тогда, когда фанфаронил. У нас же, несмотря на наружные, фантастические и фразерские формы чести и гонора, все, кроме очень немногих, даже увивались перед Зверковым, чем более он фанфаронил. И не из выгоды какой-нибудь увивались, а так, из-за того, что он фаворизированный дарами природы человек. Притом же как-то принято было у нас считать Зверкова специалистом по части ловкости и хороших манер. Последнее меня особенно бесило. Я ненавидел резкий, несомневающийся в себе звук его голоса, обожание собственных своих острот, которые у него выходили ужасно глупы, хотя он был и смел на язык; я ненавидел его красивое, но глупенькое лицо (на которое я бы, впрочем, променял с охотою свое умное) и развязно-офицерские приемы сороковых годов. Я ненавидел то, что он рассказывал о своих будущих успехах с женщинами (он не решался начинать с женщинами, не имея еще офицерских эполет, и ждал их с нетерпением) и о том, как он поминутно будет выходить на дуэли. Помню, как я, всегда молчаливый, вдруг сцепился с Зверковым, когда он, толкуя раз в свободное время с товарищами о будущей клубничке и разыгравшись наконец как молодой щенок на солнце, вдруг объявил, что ни одной деревенской девы в своей деревне не оставит без внимания, что это - droit de seigneur[vii], а мужиков, если осмелятся протестовать, всех пересечет и всем им, бородатым канальям, вдвое наложит оброку. Наши хамы аплодировали, я же сцепился и вовсе не из жалости к девам и их отцам, а просто за то, что такой козявке так аплодировали. Я тогда одолел, но Зверков, хоть и глуп был, но был весел и дерзок, а потому отсмеялся и даже так, что я, по правде, не совсем и одолел: смех остался на его стороне. Он потом еще несколько раз одолевал меня, но без злобы, а как-то так, шутя, мимоходом, смеясь. Я злобно и презрительно не отвечал ему. По выпуске он было сделал ко мне шаг; я не очень противился, потому что мне это польстило; но мы скоро и естественно разошлись. Потом я слыхал об его казарменно-поручичьих успехах, о том, как он кутит. Потом пошли другие слухи - о том, как он успевает по службе. На улице он мне уже не кланялся, и я подозревал, что он боится компрометировать себя, раскланиваясь с такой незначительной, как я, личностью. Видел я его тоже один раз в театре, в третьем ярусе, уже в аксельбантах. Он увивался и изгибался перед дочками одного древнего генерала. Года в три он очень опустился, хотя был по-прежнему довольно красив и ловок; как-то отек, стал жиреть; видно было, что к тридцати годам он совершенно обрюзгнет. Вот этому-то уезжавшему наконец Зверкову и хотели дать обед наши товарищи. Они постоянно все три года водились с ним, хотя сами, внутренно, не считали себя с ним на равной ноге, я уверен в этом.
Из двух гостей Симонова один был Ферфичкин, из русских немцев, - маленький ростом, с обезьяньим лицом, всех пересмеивающий глупец, злейший враг мой еще с низших классов, - подлый, дерзкий, фанфаронишка и игравший в самую щекотливую амбициозность, хотя, разумеется, трусишка в душе. Он был из тех почитателей Зверкова, которые заигрывали с ним из видов и часто занимали у него деньги. Другой гость Симонова, Трудолюбов, была личность незамечательная, военный парень, высокого роста, с холодною физиономией, довольно честный, но преклонявшийся перед всяким успехом и способный рассуждать только об одном производстве. Зверкову он доводился каким-то дальним родственником, и это, глупо сказать, придавало ему между нами некоторое значение. Меня он постоянно считал ни во что; обращался же хоть не совсем вежливо, но сносно.
– Что ж, коль по семи рублей, - заговорил Трудолюбов, - нас трое, двадцать один рупь, - можно хорошо пообедать. Зверков, конечно, не платит.
– Уж разумеется, коль мы же его приглашаем, - решил Симонов.
– Неужели ж вы думаете, - заносчиво и с пылкостию ввязался Ферфичкин, точно нахал лакей, хвастающий звездами своего генерала барина, - неужели вы думаете, что Зверков нас пустит одних платить? Из деликатности примет, но зато от себя полдюжины выставит.
– Ну, куда нам четверым полдюжины, - заметил Трудолюбов, обратив внимание только на полдюжину.
– Так, трое, с Зверковым четверо, двадцать один рубль в Hotel de Paris, завтра в пять часов, - окончательно заключил Симонов, которого выбрали распорядителем.
– Как же двадцать один? - сказал я в некотором волнении, даже, по-видимому, обидевшись, - если считать со мной, так будет не двадцать один, а двадцать восемь рублей.
Мне показалось, что вдруг и так неожиданно предложить себя будет даже очень красиво, и они все будут разом побеждены и посмотрят на меня с уважением.
– Разве вы тоже хотите? - с неудовольствием заметил Симонов, как-то избегая глядеть на меня. Он знал меня наизусть. Меня взбесило, что он знает меня наизусть.
– Почему же-с? Я ведь, кажется, тоже товарищ, и, признаюсь, мне даже обидно, что меня обошли, - заклокотал было я опять.
– А где вас было искать? - грубо ввязался Ферфичкин.
– Вы всегда были не в ладах с Зверковым, - прибавил Трудолюбов нахмурившись. Но я уж ухватился и не выпускал.
– Мне кажется, об этом никто не вправе судить, - возразил я с дрожью в голосе, точно и бог знает что случилось. - Именно потому-то я, может быть, теперь и хочу, что прежде был не в ладах.
– Ну, кто вас поймет... возвышенности-то эти... - усмехнулся Трудолюбов.
– Вас запишут, - решил, обращаясь ко мне, Симонов, - завтра в пять часов, в Hotel de Paris; не ошибитесь.
– Деньги-то! - начал было Ферфичкин вполголоса, кивая на меня Симонову, но осекся, потому что даже Симонов сконфузился.
– Довольно, - сказал Трудолюбов, вставая. - Если ему так уж очень захотелось, пусть придет.
– Да ведь у нас кружок свой, приятельский, - злился Ферфичкин, тоже берясь за шляпу. - Это не официальное собрание. Мы вас, может быть, и совсем не хотим...
Они ушли; Ферфичкин, уходя, мне совсем не поклонился, Трудолюбов едва кивнул, не глядя. Симонов, с которым я остался с глазу на глаз, был в каком-то досадливом недоумении и странно посмотрел на меня. Он не садился и меня не приглашал.
– Гм... да... так завтра. Деньги-то вы отдадите теперь? Я это, чтоб верно знать, - пробормотал он сконфузившись.
Я вспыхнул, но, вспыхивая, вспомнил, что с незапамятных времен должен был Симонову пятнадцать рублей, чего, впрочем, и не забывал никогда, но и не отдавал никогда.
– Согласитесь сами, Симонов, что я не мог знать, входя сюда... и мне очень досадно, что я забыл...
– Хорошо, хорошо, все равно. Расплатитесь завтра за обедом. Я ведь только, чтоб знать... Вы, пожалуйста...
Он осекся и стал ходить по комнате с еще большей досадой. Шагая, он начал становиться на каблуки и при этом сильнее топать.
– Я вас не задерживаю ли? - спросил я после двухминутного молчанья.
– О нет! - встрепенулся он вдруг, - то есть, по правде, - да. Видите ли, мне еще бы надо зайти... Тут недалеко... - прибавил он какие-то извиняющимся голосом и отчасти стыдясь.
– Ах, боже мой! Что же вы не ска-же-те! - вскрикнул я, схватив фуражку, с удивительно, впрочем, развязным видом, бог знает откуда налетевшим.
– Это ведь недалеко... Тут два шага... - повторял Симонов, провожая меня до передней с суетливым видом, который ему вовсе не шел. - Так завтра в пять часов ровно! - крикнул он мне на лестницу: очень уж он был доволен, что я ухожу. Я же был в бешенстве.
– Ведь дернуло же, дернуло же выскочить! - скрежетал я зубами, шагая по улице, - и этакому подлецу, поросенку, Зверкову! Разумеется, не надо ехать; разумеется, наплевать: что я, связан, что ли? Завтра же уведомлю Симонова по городской почте...
Но потому-то я и бесился, что наверно знал, что поеду; что нарочно поеду; и чем бестактнее, чем неприличнее будет мне ехать, тем скорее и поеду.
И даже препятствие положительное было не ехать: денег не было. Всего-навсего лежало у меня девять рублей. Но из них семь надо было отдать завтра же месячного жалованья Аполлону, моему слуге, который жил у меня за семь рублей на своих харчах.
Не выдать же было невозможно, судя по характеру Аполлона. Но об этой каналье, об этой язве моей, я когда-нибудь после поговорю.
Впрочем, я ведь знал, что все-таки не выдам, а непременно поеду.
В эту ночь снились мне безобразнейшие сны. Не мудрено: весь вечер давили меня воспоминания о каторжных годах моей школьной жизни, и я не мог от них отвязаться. Меня сунули в эту школу мои дальние родственники, от которых я зависел и о которых с тех пор не имел никакого понятия, - сунули сиротливого, уже забитого их попреками, уже задумывающегося, молчаливого и дико на все озиравшегося. Товарищи встретили меня злобными и безжалостными насмешками за то, что я ни на кого из них не был похож. Но я не мог насмешек переносить; я не мог так дешево уживаться, как они уживались друг с другом. Я возненавидел их тотчас и заключился от всех в пугливую, уязвленную и непомерную гордость. Грубость их меня возмутила. Они цинически смеялись над моим лицом, над моей мешковатой фигурой; а между тем какие глупые у них самих были лица! В нашей школе выражения лиц как-то особенно глупели и перерождались. Сколько прекрасных собой детей поступало к нам. Чрез несколько лет на них и глядеть становилось противно. Еще в шестнадцать лет я угрюмо на них дивился; меня уж и тогда изумляли мелочь их мышления, глупость их занятий, игр, разговоров. Они таких необходимых вещей не понимали, такими внушающими, поражающими предметами не интересовались, что поневоле я стал считать их ниже себя. Не оскорбленное тщеславие подбивало меня к тому, и, ради бога, не вылезайте ко мне с приевшимися до тошноты казенными возражениями: "что я только мечтал, а они уж и тогда действительную жизнь понимали". Ничего они не понимали, никакой действительной жизни, и, клянусь, это-то и возмущало меня в них наиболее. Напротив, самую очевидную, режущую глаза действительность они принимали фантастически глупо и уже тогда привыкли поклоняться одному успеху. Все, что было справедливо, но унижено и забито, над тем они жестокосердно и позорно смеялись. Чин почитали за ум; в шестнадцать лет уже толковали о теплых местечках. Конечно, много тут было от глупости, от дурного примера, беспрерывно окружавшего их детство и отрочество. Развратны они были до уродливости. Разумеется, и тут было больше внешности, больше напускной циничности; разумеется, юность и некоторая свежесть мелькали и в них даже из-за разврата; но непривлекательна была в них даже и свежесть и проявлялась в каком-то ёрничестве. Я ненавидел их ужасно, хотя, пожалуй, был их же хуже. Они мне тем же платили и не скрывали своего ко мне омерзения. Но я уже не желал их любви; напротив, я постоянно жаждал их унижения. Чтоб избавить себя от их насмешек, я нарочно начал как можно лучше учиться и пробился в число самых первых. Это им внушило. К тому же все они начали помаленьку понимать, что я уже читал такие книги, которых они не могли читать, и понимал такие вещи (не входившие в состав нашего специального курса), о которых они и не слыхивали. Дико и насмешливо смотрели они на это, но нравственно подчинялись, тем более что даже учителя обращали на меня внимание по этому поводу. Насмешки прекратились, но осталась неприязнь, и установились холодные, натянутые отношения. Под конец я сам не выдержал: с летами развивалась потребность в людях, в друзьях. Я попробовал было начать сближаться с иными; но всегда это сближение выходило неестественно и так само собой и оканчивалось. Был у меня раз как-то и друг. Но я уже был деспот в душе; я хотел неограниченно властвовать над его душой; я хотел вселить в него презрение к окружавшей его среде; я потребовал от него высокомерного и окончательного разрыва с этой средой. Я испугал его моей страстной дружбой; я доводил его до слез, до судорог; он был наивная и отдающаяся душа; но когда он отдался мне весь, я тотчас же возненавидел его и оттолкнул от себя, - точно он и нужен был мне только для одержания над ним победы, для одного его подчинения. Но всех я не мог победить; мой друг был тоже ни на одного из них не похож и составлял самое редкое исключение. Первым делом моим по выходе из школы было оставить ту специальную службу, к которой я предназначался, чтобы все нити порвать, проклясть прошлое и прахом его посыпать... И черт знает зачем после того я потащился к этому Симонову!..
Утром я рано схватился с постели, вскочил с волнением, точно все это сейчас же и начнет совершаться. Но я верил, что наступает и непременно наступит сегодня же какой-то радикальный перелом в моей жизни. С непривычки, что ли, но мне всю жизнь, при всяком внешнем, хотя бы мельчайшем событии, все казалось, что вот сейчас и наступит какой-нибудь радикальный перелом в моей жизни. Я, впрочем, отправился в должность по-обыкновенному, но улизнул домой двумя часами раньше, чтоб приготовиться. Главное, думал я, надо приехать не первым, а то подумают, что я уж очень обрадовался. Но таких главных вещей были тысячи, и все они волновали меня до бессилия. Я собственноручно еще раз вычистил мои сапоги; Аполлон ни за что на свете не стал бы чистить их два раза в день, находя, что это не порядок. Чистил же я, украв щетки из передней, чтоб он как-нибудь не заметил и не стал потом презирать меня. Затем я подробно осмотрел мое платье и нашел, что все старо, потерто, заношено. Слишком я уж обнеряшился. Вицмундир, пожалуй, был исправен, но не в вицмундире же было ехать обедать. А главное, на панталонах, на самой коленке было огромное желтое пятно. Я предчувствовал, что одно уже это пятно отнимет у меня девять десятых собственного достоинства. Знал тоже я, что очень низко так думать. "Но теперь не до думанья; теперь наступает действительность", - думал я и падал духом. Знал я тоже отлично, тогда же, что все эти факты чудовищно преувеличиваю; но что же было делать: совладать я с собой уж не мог, и меня трясла лихорадка. С отчаянием представлял я себе, как свысока и холодно встретит меня этот "подлец" Зверков; с каким тупым, ничем неотразимым презрением будет смотреть на меня тупица Трудолюбов; как скверно и дерзко будет подхихикивать на мой счет козявка Ферфичкин, чтоб подслужиться Зверкову; как отлично поймет про себя все это Симонов и как будет презирать меня за низость моего тщеславия и малодушия, и, главное, - как все это будет мизерно, не литературно, обыденно. Конечно, всего бы лучше совсем не ехать. Но это-то уж было больше всего невозможно: уж когда меня начинало тянуть, так уж я так и втягивался весь, с головой. Я бы всю жизнь дразнил себя потом: "А что, струсил, струсил действительности, струсил!" Напротив, мне страстно хотелось доказать всей этой "шушере", что я вовсе не такой трус, как я сам себе представляю. Мало того: в самом сильнейшем пароксизме трусливой лихорадки мне мечталось одержать верх, победить, увлечь, заставить их полюбить себя - ну хоть "за возвышенность мыслей и несомненное остроумие". Они бросят Зверкова, он будет сидеть в стороне, молчать и стыдиться, а я раздавлю Зверкова. Потом, пожалуй, помирюсь с ним и выпью на ты, но что всего было злее и обиднее для меня, это, что я тогда же знал, знал вполне и наверно, что ничего мне этого, в сущности, не надо, что, в сущности, я вовсе не желаю их раздавливать, покорять, привлекать и что за весь-то результат, если б только я и достиг его, я сам, первый, гроша бы не дал. О, как я молил бога, чтоб уж прошел поскорее этот день! В невыразимой тоске я подходил к окну, отворял форточку и вглядывался в мутную мглу густо падающего мокрого снега... Наконец на моих дрянных стенных часишках прошипело пять. Я схватил шапку и, стараясь не взглянуть на Аполлона, - который еще с утра все ждал от меня выдачи жалованья, но по гордости своей не хотел заговорить первый, - скользнул мимо него из дверей и на лихаче, которого нарочно нанял за последний полтинник, подкатил барином к Hotel de Paris.
IV
Я еще накануне знал, что приеду первый. Но уж дело было не в первенстве.
Их не только никого не было, но я даже едва отыскал нашу комнату. На столе было еще не совсем накрыто. Что же это значило? После многих расспросов я добился наконец от слуг, что обед заказан к шести часам, а не к пяти. Это подтвердили и в буфете. Даже стыдно стало расспрашивать. Было еще только двадцать пять минут шестого. Если они переменили час, то во всяком случае должны же были известить; на то городская почта, а не подвергать меня "позору" и перед собой и... и хоть перед слугами. Я сел; слуга стал накрывать; при нем стало как-то еще обиднее. К шести часам, кроме горевших ламп, в комнату внесены были свечи. Слуга не подумал, однако ж, внести их тотчас же, как я приехал. В соседней комнате обедали, на разных столах, два какие-то мрачных посетителя, сердитые с виду и молчавшие. В одной из дальних комнат было очень шумно; даже кричали; слышен был хохот целой ватаги людей; слышались какие-то скверные французские взвизги: обед был с дамами. Одним словом, было очень тошно. Редко я проводил более скверную минуту, так что когда они, ровно в шесть часов, явились все разом, я, на первый миг, обрадовался им как каким-то освободителям и чуть не забыл, что обязан смотреть обиженным.
Зверков вошел впереди всех, видимо предводительствуя. И он и все они смеялись; но, увидя меня, Зверков приосанился, подошел неторопливо, несколько перегибаясь в талье, точно кокетничая, и подал мне руку, ласково, но не очень, с какой-то осторожной, чуть не генеральской вежливостию, точно, подавая руку, оберегал себя от чего-то. Я воображал, напротив, что он, тотчас же как войдет, захохочет своим прежним хохотом, тоненьким и со взвизгами, и с первых же слов пойдут плоские его шутки и остроты. К ним-то я и готовился еще с вечера, но никак уж не ожидал я такого свысока, такой превосходительной ласки. Стало быть, он уж вполне считал себя теперь неизмеримо выше меня во всех отношениях? Если б он только обидеть меня хотел этим генеральством, то ничего еще, думал я; я бы как-нибудь там отплевался. Но что, если и в самом деле, без всякого желанья обидеть, в его баранью башку серьезно заползла идейка, что он неизмеримо выше меня и может на меня смотреть не иначе, как только с покровительством? От одного этого предположения я уже стал задыхаться.
– Я с удивлением узнал о вашем желании участвовать с нами, - начал он, сюсюкивая и пришепетывая, и растягивая слова, чего прежде с ним не бывало. - Мы с вами как-то всё не встречались. Вы нас дичитесь. Напрасно. Мы не так страшны, как вам кажется. Ну-с, во всяком случае рад во-зоб-но-вить...
И он небрежно повернулся положить на окно шляпу.
– Давно ждете? - спросил Трудолюбов.
– Я приехал ровно в пять часов, как мне вчера назначили, - отвечал я громко и с раздражением, обещавшим близкий взрыв.
– Разве ты не дал ему знать, что переменили часы? - оборотился Трудолюбов к Симонову.
– Не дал. Забыл, - отвечал тот, но без всякого раскаяния и, даже не извинившись передо мной, пошел распоряжаться закуской.
– Так вы здесь уж час, ах, бедный! - вскрикнул насмешливо Зверков, потому что, по его понятиям, это действительно должно было быть ужасно смешно. За ним, подленьким, звонким, как у собачонки, голоском закатился подлец Ферфичкин. Очень уж и ему показалось смешно и конфузно мое положение.
– Это вовсе не смешно! - закричал я Ферфичкину, раздражаясь все более и более, - виноваты другие, а не я. Мне пренебрегли дать знать. Это-это-это... просто нелепо.
– Не только нелепо, а и еще что-нибудь, - проворчал Трудолюбов, наивно за меня заступаясь. - Вы уж слишком мягки. Просто невежливость. Конечно, не умышленная. И как это Симонов... гм!
– Если б со мной этак сыграли, - заметил Ферфичкин, - я бы...
– Да вы бы велели себе что-нибудь подать, - перебил Зверков, - или просто спросили бы обедать не дожидаясь.
– Согласитесь, что я бы мог это сделать без всякого позволения, - отрезал я. - Если я ждал, то...
– Садимся, господа, - закричал вошедший Симонов, - все готово; за шампанское отвечаю, отлично заморожено... Ведь я вашей квартиры не знал, где ж вас отыскивать? - оборотился он вдруг ко мне, но опять как-то не глядя на меня. Очевидно, он имел что-то против. Знать, после вчерашнего надумался.
Все сели; сел и я. Стол был круглый. По левую руку от меня пришелся Трудолюбов, по правую Симонов. Зверков сел напротив; Ферфичкин подле него, между ним и Трудолюбовым.
– Ска-а-ажите, вы... в департаменте? - продолжал заниматься мною Зверков. Видя, что я сконфужен, он серьезно вообразил, что меня надо обласкать и, так сказать, ободрить. "Что ж он, хочет, что ли, чтоб я в него бутылкой пустил", - подумал я в бешенстве. Раздражался я, с непривычки, как-то неестественно скоро.
– В... й канцелярии, - ответил я отрывисто, глядя в тарелку.
– И... ввам ввыгодно? Ска-ажите, что вас паанудило оставить прежнюю службу?
– То и па-а-анудило, что захотелось оставить прежнюю службу, - протянул я втрое больше, уже почти не владея собою. Ферфичкин фыркнул. Симонов иронически посмотрел на меня; Трудолюбов остановился есть и стал меня рассматривать с любопытством.
Зверкова покоробило, но он не хотел заметить.
– Ну-у-у, а как ваше содержание?
– Какое это содержание?
– То есть ж-жалованье?
– Да что вы меня экзаменуете!
Впрочем, я тут же и назвал, сколько получаю жалованья. Я ужасно краснел.
– Небогато, - важно заметил Зверков.
– Да-с, нельзя в кафе-ресторанах обедать! - нагло прибавил Ферфичкин.
– По-моему, так даже просто бедно, - серьезно заметил Трудолюбов.
– И как вы похудели, как переменились... с тех пор... - прибавил Зверков, уже не без яду, с каким-то нахальным сожалением, рассматривая меня и мой костюм.
– Да полно конфузить-то, - хихикая, вскрикнул Ферфичкин.
– Милостивый государь, знайте, что я не конфужусь, - прорвался я наконец, - слышите-с! Я обедаю здесь, "в кафе-ресторане", на свои деньги, на свои, а не на чужие, заметьте это, monsieur Ферфичкин.
– Ка-ак! кто ж это здесь не на свои обедает? Вы как будто... - вцепился Ферфичкин, покраснев, как рак, и с остервенением смотря мне в глаза.
– Та-ак, - отвечал я, чувствуя, что далеко зашел, - и полагаю, что лучше бы нам заняться разговором поумней.
– Вы, кажется, намереваетесь ваш ум показывать?
– Не беспокойтесь, это было бы совершенно здесь лишнее.
– Да вы это что, сударь вы мой, раскудахтались - а? вы не с ума ли уж спятили, в вашем лепартаменте?
– Довольно, господа, довольно! - закричал всевластно Зверков.
– Как это глупо! - проворчал Симонов.
– Действительно, глупо, мы собрались в дружеской компании, чтоб проводить в вояж доброго приятеля, а вы считаетесь, - заговорил Трудолюбов, грубо обращаясь ко мне одному. - Вы к нам сами вчера напросились, не расстраивайте же общей гармонии...
– Довольно, довольно, - кричал Зверков. - Перестаньте, господа, это нейдет. А вот я вам лучше расскажу, как я третьего дня чуть не женился...
И вот начался какой-то пашквиль о том, как этот господин третьего дня чуть не женился. О женитьбе, впрочем, не было ни слова, но в рассказе все мелькали генералы, полковники и даже камер-юнкеры, а Зверков между ними чуть не в главе. Начался одобрительный смех; Ферфичкин даже взвизгивал.
Все меня бросили, и я сидел раздавленный и уничтоженный.
"Господи, мое ли это общество! - думал я. - И каким дураком я выставил себя сам перед ними! Я, однако ж, много позволил Ферфичкину. Думают балбесы, что честь мне сделали, дав место за своим столом, тогда как не понимают, что это я, я им делаю честь, а не мне они! "Похудел! Костюм!" О проклятые панталоны! Зверков еще давеча заметил желтое пятно на коленке... Да чего тут! Сейчас же, сию минуту встать из-за стола, взять шляпу и просто уйти, не говоря ни слова... Из презренья! А завтра хоть на дуэль. Подлецы. Ведь не семи же рублей мне жалеть. Пожалуй, подумают... Черт возьми! Не жаль мне семи рублей! Сию минуту ухожу!.."
Разумеется, я остался.
Я пил с горя лафит и херес стаканами. С непривычки быстро хмелел, а с хмелем росла и досада. Мне вдруг захотелось оскорбить их всех самым дерзким образом и потом уж уйти. Улучить минуту и показать себя - пусть же скажут: хоть и смешон, да умен... и... и... одним словом, черт с ними!
Я нагло обвел их всех осоловелыми глазами. Но они точно уж меня позабыли совсем. У них было шумно, крикливо, весело. Говорил все Зверков. Я начал прислушиваться. Зверков рассказывал о какой-то пышной даме, которую он довел-таки наконец до признанья(разумеется, лгал, как лошадь), и что в этом деле особенно помогал ему его интимный друг, какой-то князек, гусар Коля, у которого три тысячи душ.
– А между тем этого Коли, у которого три тысячи душ, здесь нет как нет проводить-то вас, - ввязался я вдруг в разговор. На минуту все замолчали.
– Вы уж о сю пору пьяны, - согласился наконец заметить меня Трудолюбов, презрительно накосясь в мою сторону. Зверков молча рассматривал меня, как букашку. Я опустил глаза. Симонов поскорей начал разливать шампанское.
Трудолюбов поднял бокал, за ним все, кроме меня.
– Твое здоровье и счастливого пути! - крикнул он Зверкову; - за старые годы, господа, за наше будущее, ура!
Все выпили и полезли целоваться с Зверковым. Я не трогался; полный бокал стоял передо мной непочатый.
– А вы разве не станете пить? - заревел потерявший терпение Трудолюбов, грозно обращаясь ко мне.
– Я хочу сказать спич со своей стороны, особо... и тогда выпью, господин Трудолюбов.
– Противная злючка! - проворчал Симонов.
Я выпрямился на стуле и взял бокал в лихорадке, готовясь к чему-то необыкновенному и сам еще не зная, что именно я скажу.
– Silence![viii] - крикнул Ферфичкин. - То-то ума-то будет! - Зверков ждал очень серьезно, понимая, в чем дело.
– Господин поручик Зверков, - начал я, - знайте, что я ненавижу фразу, фразеров и тальи с перехватами... Это первый пункт, а за сим последует второй.
Все сильно пошевелились.
– Второй пункт: ненавижу клубничку и клубничников. И особенно клубничников!
– Третий пункт: люблю правду, искренность и честность, - продолжал я почти машинально, потому что сам начинал уж леденеть от ужаса, не понимая, как это я так говорю... - Я люблю мысль, мсье Зверков; я люблю настоящее товарищество, на равной ноге, а не... гм... Я люблю... А впрочем, отчего ж? И я выпью за ваше здоровье, м-сье Зверков. Прельщайте черкешенок, стреляйте врагов отечества и... и... За ваше здоровье, м-сье Зверков!
Зверков встал со стула, поклонился мне и сказал:
– Очень вам благодарен.
Он был ужасно обижен и даже побледнел.
– Черт возьми, - заревел Трудолюбов, ударив по столу кулаком.
– Нет-с, за это по роже бьют! - взвизгнул Ферфичкин.
– Выгнать его надо! - проворчал Симонов.
– Ни слова, господа, ни жеста! - торжественно крикнул Зверков, останавливая общее негодованье. - Благодарю вас всех, но я сам сумею доказать ему, насколько ценю его слова.
– Господин Ферфичкин, завтра же вы мне дадите удовлетворенье за ваши сейчашние слова! - громко сказал я, важно обращаясь к Ферфичкину.
– То есть дуэль-с? Извольте, - отвечал тот, но, верно, я был так смешон, вызывая, и так это не шло к моей фигуре, что все, а за всеми и Ферфичкин, так и легли со смеху.
– Да, конечно, бросить его! Ведь совсем уж пьян! - с омерзением проговорил Трудолюбов.
– Никогда не прощу себе, что его записал! - проворчал опять Симонов.
"Вот теперь бы и пустить бутылкой во всех", - подумал я, взял бутылку и... налил себе полный стакан.
"... Нет, лучше досижу до конца! - продолжал я думать, - вы были бы рады, господа, чтоб я ушел. Ни за что. Нарочно буду сидеть и пить до конца, в знак того, что не придаю вам ни малейшей важности. Буду сидеть и пить, потому что здесь кабак, а я деньги за вход заплатил. Буду сидеть и пить, потому что вас за пешек считаю, за пешек несуществующих. Буду сидеть и пить... и петь, если захочу, да-с, и петь, потому что право такое имею... чтоб петь... гм".
Но я не пел. Я старался только ни на кого из них не глядеть; принимал независимейшие позы и с нетерпеньем ждал, когда со мной они сами, первые, заговорят. Но, увы, они не заговорили. И как бы, как бы я желал в эту минуту с ними помириться! Пробило восемь часов, наконец девять. Они перешли со стола на диван. Зверков разлегся на кушетке, положив одну ногу на круглый столик. Туда перенесли и вино. Он действительно выставил им три бутылки своих. Меня, разумеется, не пригласил. Все обсели его на диване. Они слушали его чуть не с благоговеньем. Видно было, что его любили. "За что? за что?" - думал я про себя. Изредка они приходили в пьяный восторг и целовались. Они говорили о Кавказе, о том, что такое истинная страсть, о гальбике, о выгодных местах по службе; о том, сколько доходу у гусара Подхаржевского, которого никто из них не знал лично, и радовались, что у него много доходу; о необыкновенной красоте и грации княгини Д-й, которую тоже никто из них никогда не видал; наконец дошло до того, что Шекспир бессмертен.
Я презрительно улыбался и ходил по другую сторону комнаты, прямо против дивана, вдоль стены, от стола до печки и обратно. Всеми силами я хотел показать, что могу и без них обойтись; а между тем нарочно стучал сапогами, становясь на каблуки. Но все было напрасно. Они-то и не обращали внимания. Я имел терпенье проходить так, прямо перед ними, с восьми до одиннадцати часов, все по одному и тому же месту, от стола до печки и от печки обратно к столу. "Так хожу себе, и никто не может мне запретить". Входивший в комнату слуга несколько раз останавливался смотреть на меня; от частых оборотов у меня кружилась голова; минутами мне казалось, что я в бреду. В эти три часа я три раза вспотел и просох. Порой с глубочайшею, с ядовитою болью вонзалась в мое сердце мысль: что пройдет десять лет, двадцать лет, сорок лет, а я все-таки, хоть и через сорок лет, с отвращением и с унижением вспомню об этих грязнейших, смешнейших и ужаснейших минутах из всей моей жизни. Бессовестнее и добровольнее унижать себя самому было уже невозможно, и я вполне, вполне понимал это и все-таки продолжал ходить от стола до печки и обратно. "О, если б вы только знали, на какие чувства и мысли способен я и как я развит!" - думал я минутами; мысленно обращаясь к дивану, где сидели враги мои. Но враги мои вели себя так, как будто меня и не было в комнате. Раз, один только раз они обернулись ко мне, именно когда Зверков заговорил о Шекспире, а я вдруг презрительно захохотал. Я так выделанно и гадко фыркнул, что они все разом прервали разговор и молча наблюдали минуты две, серьезно, не смеясь, как я хожу по стенке, от стола до печки, и как я не обращаю на них никакого внимания. Но ничего не вышло: они не заговорили и через две минуты опять меня бросили. Пробило одиннадцать.
– Господа, - закричал Зверков, подымаясь с дивана, - теперь все туда.
– Конечно, конечно! - заговорили другие.
Я круто поворотил к Зверкову. Я был до того измучен, до того изломан, что хоть зарезаться, а покончить! У меня была лихорадка; смоченные потом волосы присохли ко лбу и вискам.
– Зверков! я прошу у вас прощенья, - сказал я резко и решительно, - Ферфичкин, и у вас тоже, у всех, у всех, я обидел всех!
– Ага! дуэль-то не свой брат! - ядовито прошипел Ферфичкин.
Меня больно резнуло по сердцу.
– Нет, я не дуэли боюсь, Ферфичкин! Я готов с вами же завтра драться, уже после примирения. Я даже настаиваю на этом, и вы не можете мне отказать. Я хочу доказать вам, что я не боюсь дуэли. Вы будете стрелять первый, а я выстрелю на воздух.
– Сам себя тешит, - заметил Симонов.
– Просто сбрендил! - отозвался Трудолюбов.
– Да позвольте пройти, что вы поперек дороги стали!.. Ну чего вам надобно? - презрительно. отвечал Зверков. Все они были красные; глаза у всех блистали: много пили.
– Я прошу вашей дружбы, Зверков, я вас обидел, но...
– Обидели? В-вы! Ми-ня! Знайте, милостивый государь, что вы никогда и ни при каких обстоятельствах не можете меня обидеть !
– И довольно с вас, прочь! - скрепил Трудолюбов. - Едем.
– Олимпия моя, господа, уговор! - крикнул Зверков.
– Не оспариваем! не оспариваем! - отвечали ему смеясь. Я стоял оплеванный. Ватага шумно выходила из комнаты, Трудолюбов затянул какую-то глупую песню. Симонов остался на крошечную минутку, чтоб дать на чай слугам. Я вдруг подошел к нему.
– Симонов! дайте мне шесть рублей! - сказал я решительно и отчаянно.
Он поглядел на меня в чрезвычайном изумлении какими-то тупыми глазами. Он тоже был пьян.
– Да разве вы и туда с нами?
– Да!
– У меня денег нет! - отрезал он, презрительно усмехнулся и пошел из комнаты.
Я схватил его за шинель. Это был кошмар.
– Симонов! я видел у вас деньги, зачем вы мне отказываете? Разве я подлец? Берегитесь мне отказать: если б вы знали, если б вы знали, для чего я прошу! От этого зависит все, все мое будущее, все мои планы.
Симонов вынул деньги и чуть не бросил их мне.
– Возьмите, если вы так бессовестны! - безжалостно проговорил он и побежал догонять их.
Я остался на минуту один. Беспорядок, объедки, разбитая рюмка на полу, пролитое вино, окурки папирос, хмель и бред в голове, мучительная тоска в сердце и, наконец, лакей, все видевший и все слышавший и любопытно заглядывавший мне в глаза.
– Туда! - вскрикнул я. - Или они все на коленах, обнимая ноги мои, будут вымаливать моей дружбы, или... или я дам Зверкову пощечину!
V
– Так вот оно, так вот оно наконец столкновенье-то с действительностью, - бормотал я, сбегая стремглав с лестницы. - Это, знать, уж не папа, оставляющий Рим и уезжающий в Бразилию; это, знать, уж не бал на озере Комо!
"Подлец ты! - пронеслось в моей голове, - коли над этим теперь смеешься".
– Пусть! - крикнул я, отвечая себе. - Теперь ведь уж все погибло!
Их уж и след простыл; но все равно: я знал, куда они поехали.
У крыльца стоял одинокий ванька, ночник, в сермяге, весь запорошенный все еще валившимся мокрым и как будто теплым снегом. Было парно и душно. Маленькая лохматая, пегая лошаденка его была тоже вся запорошена и кашляла; я это очень помню. Я бросился в лубошные санки; но только было я занес ногу, чтоб сесть, воспоминание о том, как Симонов сейчас давал мне шесть рублей, так и подкосило меня, и я, как мешок, повалился в санки.
– Нет! Надо много сделать, чтоб все это выкупить! - прокричал я, - но я выкуплю или в эту же ночь погибну на месте. Пошел!
Мы тронулись. Целый вихрь кружился в моей голове.
"На коленах умолять о моей дружбе - они не станут. Это мираж, пошлый мираж, отвратительный, романтический и фантастический; тот же бал на озере Комо. И потому я должен дать Зверкову пощечину! Я обязан дать. Итак, решено; я лечу теперь дать ему пощечину".
– Погоняй!
Ванька задергал вожжами.
"Как войду, так и дам. Надобно ли сказать перед пощечиной несколько слов в виде предисловия? Нет! Просто войду и дам. Они все будут сидеть в зале, а он на диване с Олимпией. Проклятая Олимпия! Она смеялась раз над моим лицом и отказалась от меня. Я оттаскаю Олимпию за волосы, а Зверкова за уши! Нет, лучше за одно ухо и за ухо проведу его по всей комнате. Они, может быть, все начнут меня бить и вытолкают. Это даже наверно. Пусть! Все же я первый дал пощечину: моя инициатива; а по законам чести - это всё; он уже заклеймен и никакими побоями уж не смоет с себя пощечины, кроме как дуэлью. Он должен будет драться. Да и пусть они теперь бьют меня. Пусть, неблагородные! Особенно будет бить Трудолюбов: он такой сильный; Ферфичкин прицепится сбоку и непременно за волосы, наверно. Но пусть, пусть! Я на то пошел. Их бараньи башки принуждены же будут раскусить наконец во всем этом трагическое! Когда они будут тащить меня к дверям, я закричу им, что, в сущности, они не стоят моего одного мизинца". "Погоняй, извозчик, погоняй!" - закричал я на ваньку. Он даже вздрогнул и взмахнул кнутом. Очень уж дико я крикнул.
"На рассвете деремся, это уж решено. С департаментом кончено. Ферфичкин сказал давеча вместо департамента - лепартамент. Но где взять пистолетов? Вздор! Я возьму вперед жалованья и куплю. А пороху, а пуль? Это дело секунданта. И как успеть все это к рассвету? И где я возьму секунданта? У меня нет знакомых..."
– Вздор! - крикнул я, взвихриваясь еще больше, - вздор!
"Первый встречный на улице, к которому я обращусь, обязан быть моим секундантом точно так же, как вытащить из воды утопающего. Самые эксцентрические случаи должны быть допущены. Да если б я самого даже директора завтра попросил в секунданты, то и тот должен бы был согласиться из одного рыцарского чувства и сохранить тайну! Антон Антоныч.. "
Дело в том, что в ту же самую минуту мне яснее и ярче, чем кому бы то ни было во всем мире, представлялась вся гнуснейшая нелепость моих предположений и весь оборот медали, но...
– Погоняй, извозчик, погоняй, шельмец, погоняй!
– Эх, барин! - проговорила земская сила.
Холод вдруг обдал меня.
"А не лучше ли... а не лучше ли... прямо теперь же домой? О боже мой! зачем, зачем вчера я вызвался на этот обед! Но нет, невозможно! А прогулка-то три часа от стола до печки? Нет, они, они, а не кто другой должны расплатиться со мною за эту прогулку! Они должны смыть это бесчестие!" "Погоняй!"
"А что, если они меня в часть отдадут? Не посмеют! Скандала побоятся. А что, если Зверков из презренья откажется от дуэли? Это даже наверно; но я докажу им тогда... Я брошусь тогда на почтовый двор, когда он будет завтра уезжать, схвачу его за ногу, сорву с него шинель, когда он будет в повозку влезать. Я зубами вцеплюсь ему в руку, я укушу его. "Смотрите все, до чего можно довести отчаянного человека!" Пусть он бьет меня в голову, а все они сзади. Я всей публике закричу: "Смотрите, вот молодой щенок, который едет пленять черкешенок с моим плевком на лице!"
Разумеется, после этого все уже кончено! Департамент исчез с лица земли. Меня схватят, меня будут судить, меня выгонят из службы, посадят в острог, пошлют в Сибирь, на поселение. Нужды нет! Через пятнадцать лет я потащусь за ним в рубище, нищим, когда меня выпустят из острога. Я отыщу его где-нибудь в губернском городе. Он будет женат и счастлив. У него будет взрослая дочь... Я скажу: "Смотри, изверг, смотри на мои ввалившиеся щеки и на мое рубище! Я потерял все - карьеру, счастье, искусство, науку, любимую женщину, и все из-за тебя. Вот пистолеты. Я пришел разрядить свой пистолет и... и прощаю тебя." Тут я выстрелю на воздух, и обо мне ни слуху ни духу..."
Я было даже заплакал, хотя совершенно точно знал в это же самое мгновение, что все это из Сильвио и из "Маскарада" Лермонтова[18]. И вдруг мне стало ужасно стыдно, до того стыдно, что я остановил лошадь, вылез из саней и стал в снег среди улицы. Ванька с изумлением и вздыхая смотрел на меня.
Что было делать? И туда было нельзя - выходил вздор; и оставить дела нельзя, потому что уж тут выйдет... "Господи! Как же это можно оставить! И после таких обид! Нет! - вскликнул я, снова кидаясь в сани, - это предназначено, это рок! погоняй, погоняй, туда!"
И в нетерпении я ударил кулаком извозчика в шею.
– Да что ты, чего дерешься? - закричал мужичонка, стегая, однако ж, клячу, так что та начала лягаться задними ногами.
Мокрый снег валил хлопьями; я раскрылся, мне было не до него. Я забыл все прочее, потому что окончательно решился на пощечину и с ужасом ощущал, что это ведь уж непременно сейчас, теперь случится и уж никакими силами остановить нельзя. Пустынные фонари угрюмо мелькали в снежной мгле, как факелы на похоронах. Снег набился мне под шинель, под сюртук, под галстук и там таял; я не закрывался: ведь уж и без того все было потеряно! Наконец мы подъехали. Я выскочил почти без памяти, взбежал по ступенькам и начал стучать в дверь руками и ногами. Особенно ноги, в коленках, у меня ужасно слабели. Как-то скоро отворили; точно знали о моем приезде. (Действительно, Симонов предуведомил, что, может быть, еще будет один, а здесь надо было предуведомлять и вообще брать предосторожности. Это был один из тех тогдашних "модных магазинов", которые давно уже теперь истреблены полицией. Днем и в самом деле это был магазин; а по вечерам имеющим рекомендацию можно было приезжать в гости.) Я прошел скорыми шагами через темную лавку в знакомый мне зал, где горела всего одна свечка, и остановился в недоумении: никого не было.
– Где же они? - спросил я кого-то.
Но они, разумеется, уже успели разойтись...
Передо мной стояла одна личность, с глупой улыбкой, сама хозяйка, отчасти меня знавшая. Через минуту отворилась дверь, и вошла другая личность.
Не обращая ни на что внимания, я шагал по комнате и, кажется говоpил сам с собой. Я был точно от смеpти спасен и всем существом своим pадостно это пpедчувствовал: ведь я бы дал пощечину, я бы непpеменно, непpеменно дал пощечину! Но тепеpь их нет и... все исчезло, все пеpеменилось!.. Я оглядывался. Я еще не мог сообразить. Машинально я взглянул на вошедшую девушку: передо мной мелькнуло свежее, молодое, несколько бледное лицо, с прямыми темными бровями, с серьезным и как бы несколько удивленным взглядом. Мне это тотчас же понравилось; я бы возненавидел ее, если б она улыбалась. Я стал вглядываться пристальнее и как бы с усилием: мысли еще не все собрались. Что-то простодушное и доброе было в этом лице, но как-то до странности серьезное. Я уверен, что она этим здесь проигрывала, и из тех дураков ее никто не заметил. Впрочем, она не могла назваться красавицей, хоть и была высокого роста, сильна, хорошо сложена. Одета чрезвычайно просто. Что-то гадкое укусило меня; я подошел прямо к ней...
Я случайно погляделся в зеркало. Взбудораженное лицо мое мне показалось до крайности отвратительным: бледное, злое, подлое, с лохматыми волосами. "Это пусть, этому я рад, - подумал я, - я именно рад, что покажусь ей отвратительным; мне это приятно..."
VI
... Где-то за перегородкой, как будто от какого-то сильного давления, как будто кто-то душил их, - захрипели часы. После неестественно долгого хрипенья последовал тоненький, гаденький и как-то неожиданно частый звон, - точно кто-то вдруг вперед выскочил. Пробило два. Я очнулся, хоть и не спал, а только лежал в полузабытьи.
В комнате узкой, тесной и низкой, загроможденной огромным платяным шкафом и забросанной картонками, тряпьем и всяческим одежным хламом, - было почти совсем темно. Огарок, светивший на столе в конце комнаты, совсем потухал, изредка чуть-чуть вспыхивая. Через несколько минут должна была наступить совершенная тьма.
Я приходил в себя недолго; все разом, без усилий, тотчас же мне вспомнилось, как будто так и сторожило меня, чтоб опять накинуться. Да и в самом забытьи все-таки в памяти постоянно оставалась как будто какая-то точка, никак не забывавшаяся, около которой тяжело ходили мои сонные грезы. Но странно было: все, что случилось со мной в этот день, показалось мне теперь, по пробуждении, уже давным-давно прошедшим, как будто я уже давно-давно выжил из всего этого.
В голове был угар. Что-то как будто носилось надо мной и меня задевало, возбуждало и беспокоило. Тоска и желчь снова накипали и искали исхода. Вдруг рядом со мной я увидел два открытые глаза, любопытно и упорно меня рассматривавшие. Взгляд был холодно-безучастный, угрюмый, точно совсем чужой; тяжело от него было.
Угрюмая мысль зародилась в моем мозгу и прошла по всему телу каким-то скверным ощущением, похожим на то, когда входишь в подполье, сырое и затхлое. Как-то неестественно было, что именно только теперь эти два глаза вздумали меня начать рассматривать. Вспомнилось мне тоже, что в продолжение двух часов я не сказал с этим существом ни одного слова и совершенно не счел этого нужным; даже это мне давеча почему-то нравилось. Теперь же мне вдруг ярко представилась нелепая, отвратительная, как паук, идея разврата, который без любви, грубо и бесстыже, начинает прямо с того, чем настоящая любовь венчается. Мы долго смотрели так друг на друга, но глаз своих она перед моими не опускала и взгляду своего не меняла, так что мне стало наконец отчего-то жутко.
– Как тебя зовут? - спросил я отрывисто, чтоб поскорей кончить.
– Лизой, - ответила она почти шепотом, но как-то совсем неприветливо и отвела глаза.
Я помолчал.
– Сегодня погода... снег... гадко! - проговорил я почти про себя, тоскливо заложив руку за голову и смотря в потолок.
Она не отвечала. Безобразно все это было.
– Ты здешняя? - спросил я через минуту, почти в сердцах, слегка поворотив к ней голову.
– Нет.
– Откуда?
– Из Риги, - проговорила она нехотя.
– Немка?
– Русская.
– Давно здесь?
– Где?
– В доме.
– Две недели. - Она говорила все отрывистее и отрывистее. Свечка совершенно потухла; я не мог уже различать ее лица.
– Отец и мать есть?
– Да... нет... есть.
– Где они?
– Там... в Риге.
– Кто они?
– Так...
– Как так? Кто, какого звания?
– Мещане.
– Ты все с ними жила?
– Да.
– Сколько тебе лет?
– Двадцать.
– Зачем же ты от них ушла?
– Так.
Это так означало: отвяжись, тошно. Мы замолчали.
Бог знает почему я не уходил. Мне самому становилось все тошнее и тоскливее. Образы всего прошедшего дня как-то сами собой, без моей воли, беспорядочно стали проходить в моей памяти. Я вдруг вспомнил одну сцену, которую видел утром на улице, когда озабоченно трусил в должность.
– Сегодня гроб выносили и чуть не уронили, - вдруг проговорил я вслух, совсем и не желая начинать разговора, а так, почти нечаянно.
– Гроб?
– Да, на Сенной; выносили из подвала
– Из подвала?
– Не из подвала, а из подвального этажа... ну знаешь, внизу... из дурного дома... Грязь такая была кругом... Скорлупа, сор... пахло... мерзко было.
Молчание.
– Скверно сегодня хоронить! - начал я опять, чтобы только не молчать.
– Чем скверно?
– Снег, мокрять... (Я зевнул.)
– Все равно, - вдруг сказала она после некоторого молчания.
– Нет, гадко... (Я опять зевнул.) Могильщики, верно, ругались, оттого что снег мочил. А в могиле, верно, была вода.
– Отчего в могиле вода? - спросила она с каким-то любопытством, но выговаривая еще грубее и отрывочнее, чем прежде. Меня вдруг что-то начало подзадоривать.
– Как же, вода, на дне, вершков на шесть. Тут ни одной могилы, на Волковом, сухой не выроешь.
– Отчего?
– Как отчего? Место водяное такое. Здесь везде болото. Так в воду и кладут. Я видел сам... много раз...
(Ни одного разу я не видал, да и на Волковом никогда не был, а только слышал, как рассказывали.)
– Неужели тебе все равно, умирать-то?
– Да зачем я помру? - отвечала она, как бы защищаясь.
– Когда-нибудь да умрешь же, и так же точно умрешь, как давешняя покойница. Это была... тоже девушка одна... В чахотке померла.
– Девка в больнице бы померла... (Она уж об этом знает, подумал я, - и сказала: девка, а не девушка.)
– Она хозяйке должна была, - возразил я, все более и более подзадориваясь спором, - и до самого почти конца ей служила, хоть и в чахотке была. Извозчики кругом говорили с солдатами, рассказывали это. Верно, ее знакомые бывшие. Смеялись. Еще в кабаке ее помянуть собирались. (Я и тут много приврал.)
Молчание, глубокое молчание. Она даже не шевелилась.
– А в больнице-то лучше, что ль, помирать?
– Не все ль одно?.. Да с чего мне помирать? - прибавила она раздражительно.
– Не теперь, так потом?
– Ну и потом...
– Как бы не так! Ты вот теперь молода, хороша, свежа - тебя во столько и ценят. А через год этой жизни ты не то уж будешь, увянешь.
– Через год?
– Во всяком случае, через год тебе будет меньше цена, - продолжал я с злорадством. - Ты и перейдешь отсюда куда-нибудь ниже, в другой дом. Еще через год - в третий дом, все ниже и ниже, а лет через семь и дойдешь на Сенной до подвала. Это еще хорошо бы. А вот беда, коль у тебя, кроме того, объявится какая болезнь, ну, там слабость груди... аль сама простудишься, али что-нибудь. В такой жизни болезнь туго проходит. Привяжется, так, пожалуй, и не отвяжется. Вот и помрешь.
– Ну и помру, - ответила она совсем уж злобно и быстро пошевельнулась.
– Да ведь жалко.
– Кого?
– Жизни жалко.
Молчанье.
– У тебя был жених? а?
– Вам на что?
– Да я тебя не допытываю. Мне что. Чего ты сердишься? У тебя, конечно, могли быть свои неприятности. Чего мне? А так, жаль.
– Кого?
– Тебя жаль.
– Нечего... - шепнула она чуть слышно и опять шевельнулась.
Меня это тотчас же подозлило. Как! я так было кротко с ней, а она...
– Да ты что думаешь? На хорошей ты дороге, а?
– Ничего я не думаю.
– То и худо, что не думаешь. Очнись, пока время есть. А время-то есть. Ты еще молода, собой хороша; могла бы полюбить, замуж пойти, счастливой быть...
– Не все замужем-то счастливые, - отрезала она прежней грубой скороговоркой.
– Не все, конечно, - а все-таки лучше гораздо, чем здесь. Не в пример лучше. А с любовью и без счастья можно прожить. И в горе жизнь хороша, хорошо жить на свете, даже как бы ни жить. А здесь что, кроме... смрада. Фуй!
Я повернулся с омерзеньем; я уже не холодно резонерствовал. Я сам начинал чувствовать, что говорю, и горячился. Я уже свои заветные идейки, в углу выжитые, жаждал изложить. Что-то вдруг во мне загорелось, какая-то цель "явилась".
– Ты не смотри на меня, что я здесь, я тебе не пример. Я, может, еще тебя хуже. Я, впрочем, пьяный сюда зашел, - поспешил я все-таки оправдать себя. - К тому ж мужчина женщине совсем не пример. Дело розное; я хоть и гажу себя и мараю, да зато ничей я не раб; был да пошел, и нет меня. Стряхнул с себя и опять не тот. А взять то, что ты с первого начала - раба. Да, раба! Ты все отдаешь, всю волю. И порвать потом эти цепи захочешь, да уж нет: всё крепче и крепче будут тебя опутывать. Это уж такая цепь проклятая. Я ее знаю. Уж о другом я и не говорю, ты и не поймешь, пожалуй, а вот скажи-ка: ведь ты, наверно, уж хозяйке должна? Ну, вот видишь! - прибавил я, хотя она мне не ответила, а только молча, всем существом своим слушала; - вот тебе и цепь! Уж никогда не откупишься. Так сделают. Все равно что черту душу...
... И к тому ж я... может быть, тоже такой же несчастный, почем ты знаешь, и нарочно в грязь лезу, тоже с тоски. Ведь пьют же с горя: ну, а вот я здесь - с горя. Ну скажи, ну что тут хорошего: вот мы с тобой... сошлись... давеча, и слова мы во все время друг с дружкой не молвили, и ты меня, как дикая, уж потом рассматривать стала; и я тебя также. Разве эдак любят? Разве эдак человек с человеком сходиться должны? Это безобразие одно, вот что!
– Да! - резко и поспешно она мне поддакнула. Меня даже удивила поспешность этого да. Значит, и у ней, может быть, та же самая мысль бродила в голове, когда она давеча меня рассматривала? Значит, и она уже способна к некоторым мыслям?.. "Черт возьми, это любопытно, это - сродни, - думал я, - чуть не потирая себе руки. - Да и как с молодой такой душой не справиться?.."
Более всего меня игра увлекала.
Она повернула свою голову ближе ко мне и, показалось мне в темноте, подперлась рукой. Может быть, меня рассматривала. Как жалел я, что не мог разглядеть ее глаз. Я слышал ее глубокое дыханье.
– Зачем ты сюда приехала? - начал я уже с некоторою властью.
– Так.
– А ведь как хорошо в отцовском-то бы доме жить! Тепло, привольно; гнездо свое.
– А коль того хуже?
"В тон надо попасть, - мелькнуло во мне, - сантиментальностью-то, пожалуй, не много возьмешь".
Впрочем, это так только мелькнуло. Клянусь, она и в самом деле меня интересовала. К тому же я был как-то расслаблен и настроен. Да и плутовство ведь так легко уживается с чувством.
– Кто говорит! - поспешил я ответить, - все бывает. Я ведь вот уверен, что тебя кто-нибудь обидел и скорей перед тобой виноваты, чем ты перед ними. Я ведь ничего из твоей истории не знаю, но такая девушка, как ты, верно, не с охоты своей сюда попадет...
– Какая такая я девушка? - прошептала она едва слышно; но я расслышал.
"Черт возьми, да я льщу. Это гадко. А может, и хорошо..." Она молчала.
– Видишь, Лиза, - я про себя скажу! Была бы у меня семья с детства, не такой бы я был, как теперь. Я об этом часто думаю. Ведь как бы ни было в семье худо - все отец с матерью, а не враги, не чужие. Хоть в год раз любовь тебе выкажут. Все-таки ты знаешь, что ты у себя. Я вот без семьи вырос; оттого, верно, такой и вышел... бесчувственный.
Я выждал опять.
"Пожалуй, и не понимает, - думал я, - да и смешно - мораль".
– Если б я был отец и была б у меня своя дочь, я бы, кажется, дочь больше, чем сыновей, любил, право, - начал я сбоку, точно не об том, чтоб развлечь ее. Признаюсь, я краснел.
– Это зачем? - спросила она.
А, стало быть, слушает!
– Так; не знаю, Лиза. Видишь: я знал одного отца, который был строгий, суровый человек, а перед дочерью на коленках простаивал, руки-ноги ее целовал, налюбоваться не мог, право. Она танцует на вечере, а он стоит пять часов на одном месте, с нее глаз не спускает. Помешался на ней; я это понимаю. Она ночью устанет - заснет, а он проснется и пойдет сонную ее целовать и крестить. Сам в сюртучишке засаленном ходит, для всех скупой, а ей из последнего покупает, подарки дарит богатые, и уж радость ему, коль подарок понравится. Отец всегда дочерей больше любит, чем мать. Весело иной девушке дома жить! А я бы, кажется, свою дочь и замуж не выдавал.
– Да как же? - спросила она, чуть-чуть усмехнувшись.
– Ревновал бы, ей-богу. Ну, как это другого она станет целовать? чужого больше отца любить? Тяжело это и вообразить. Конечно, все это вздор; конечно, всякий под конец образумится. Но я б, кажется, прежде чем отдать, уж одной заботой себя замучил: всех бы женихов перебраковал. А кончил бы все-таки тем, что выдал бы за того, кого она сама любит. Ведь тот, кого дочь сама полюбит, всегда всех хуже отцу кажется. Это уж так. Много из-за этого в семьях худа бывает.
– Другие-то продать рады дочь, не то что честью отдать, - проговорила она вдруг.
А! вон оно что!
– Это, Лиза, в тех семьях проклятых, где ни бога, ни любви не бывает, - с жаром подхватил я, - а где любви не бывает, там и рассудка не бывает. Такие есть семьи, правда, да я не об них говорю. Ты, видно, в своей семье не видала добра, что так говоришь. Подлинно несчастная ты какая-нибудь. Гм... Больше по бедности все это бывает.
– А у господ-то лучше, что ль? И по бедности честные люди хорошо живут.
– Гм... да. Может быть. Опять и то, Лиза: человек только свое горе любит считать, а счастья своего не считает. А счел бы как должно, так и увидел бы, что на всякую долю его запасено. Ну, а что, коли в семье все удастся, бог благословит, муж выйдет хороший, любит тебя, лелеет тебя, не отходит от тебя! хорошо в той семье! Даже иной раз и с горем пополам хорошо; да и где горя нет? Выйдешь, может, замуж, сама узнаешь. Зато взять хоть в первое-то время замужем за тем, кого любишь: счастья-то, счастья-то сколько иной раз придет! да и сплошь да рядом. В первое-то время даже и ссоры с мужем хорошо кончаются. Иная сама чем больше любит, тем больше ссоры с мужем заваривает. Право; я знал такую: "Так вот, люблю, дескать, очень и из любви тебя мучаю, а ты чувствуй". Знаешь ли, что из любви нарочно человека можно мучить? Все больше женщины. А сама про себя думает: "Зато уж так буду потом любить, так заласкаю, что не грех теперь и помучить". И в доме все на вас радуются, и хорошо, и весело, и мирно, и честно... Вот другие тоже ревнивы бывают. Уйдет он куда, - я знал одну, - не стерпит, да в самую ночь и выскочит, да и бежит потихоньку смотреть: не там ли, не в том ли доме, не с той ли? Это уж худо. И сама знает, что худо, и сердце у ней замирает и казнится, да ведь любит; все от любви. А как хорошо после ссоры помириться, самой перед ним повиниться али простить! И так хорошо обоим, так хорошо вдруг станет, - точно вновь они встретились, вновь повенчались, вновь любовь у них началась. И никто-то, никто-то не должен знать, что между мужем и женой происходит, коль они любят друг друга. И какая бы ни вышла у них ссора, - мать родную, и ту не должны себе в судьи звать и один про другого рассказывать. Сами они себе судьи. Любовь - тайна божия и от всех глаз чужих должна быть закрыта, что бы там ни произошло. Святее от этого, лучше. Друг друга больше уважают, а на уважении много основано. И коль раз уж была любовь, коль по любви венчались, зачем любви проходить! Неужто нельзя ее поддержать? Редко такой случай, что нельзя поддержать. Ну, а как муж человек добрый и честный удастся, так как тут любовь пройдет? Первая брачная любовь пройдет, правда, а там придет любовь еще лучше. Там душой сойдутся, все дела свои сообща положут; тайны друг от друга не будет. А дети пойдут, так тут каждое, хоть и самое трудное время счастьем покажется; только бы любить да быть мужественным. Тут и работа весела, тут и в хлебе себе иной раз отказываешь для детей, и то весело. Ведь они ж тебя будут за это потом любить; себе же, значит, копишь. Дети растут, - чувствуешь, что ты им пример, что ты им поддержка; что и умрешь ты, они всю жизнь чувства и мысли твои будут носить на себе, так как от тебя получили, твой образ и подобие примут. Значит, это великий долг. Как тут не сойтись тесней отцу с матерью? Говорят вот, детей иметь тяжело? Кто это говорит? Это счастье небесное! Любишь ты маленьких детей, Лиза? я ужасно люблю. Знаешь - розовенький такой мальчик, грудь тебе сосет, да у какого мужа сердце повернется на жену, глядя, как она с его ребенком сидит! Ребеночек розовенький, пухленький, раскинется, нежится; ножки-ручки наливные, ноготочки чистенькие, маленькие, такие маленькие, что глядеть смешно, глазки, точно уж он все понимает. А сосет - грудь тебе ручонкой теребит, играет. Отец подойдет, - оторвется от груди, перегнется весь назад, посмотрит на отца, засмеется, - точно уж и бог знает как смешно, - и опять, опять сосать примется. А то возьмет, да и прикусит матери грудь, коль уж зубки прорезываются, а сам глазенками-то косит на нее: "Видишь, прикусил!" Да разве не все тут счастье, когда они трое, муж, жена и ребенок, вместе? За эти минуты много можно простить. Нет, Лиза, знать самому сначала нужно жить выучиться, а потом уж других обвинять!
"Картинками, вот этими-то картинками тебя надо! - подумал я про себя, хотя, ей-богу, с чувством говорил, и вдруг покраснел. - А ну если она вдруг расхохочется, куда я тогда полезу?" - Эта идея меня привела в бешенство. К концу-то речи я действительно разгорячился, и теперь самолюбие как-то страдало. Молчание длилось. Я даже хотел толкнуть ее.
– Чтой-то вы... - начала она вдруг и остановилась.
Но я уже все понял: в ее голосе уже что-то другое дрожало, не резкое, не грубое и несдающееся, как недавно, а что-то мягкое и стыдливое, до того стыдливое, что мне самому как-то вдруг перед ней стыдно стало, виновато стало.
– Что? - спросил я с нежным любопытством.
– Да вы...
– Что?
– Что-то вы... точно как по книге, - сказала она, и что-то как будто насмешливое вдруг опять послышалось в ее голосе.
Больно ущипнуло меня это замечанье. Я не того ожидал.
Я и не понял, что она нарочно маскировалась в насмешку, что это обыкновенная последняя уловка стыдливых и целомудренных сердцем людей, которым грубо и навязчиво лезут в душу и которые до последней минуты не сдаются от гордости и боятся перед вами высказать свое чувство. Уже по робости, с которой она приступала, в несколько приемов, к своей насмешке, и наконец только решилась высказать, я бы должен был догадаться. Но я не догадался, и злое чувство обхватило меня.
"Постой же", - подумал я.
VII
– Э, полно, Лиза, какая уж тут книга, когда мне самому гадко вчуже. Да и не вчуже. У меня все это теперь в душе проснулось... Неужели, неужели тебе самой не гадко здесь? Нет, видно, много значит привычка! Черт знает, что привычка может из человека сделать. Да неужели ж ты серьезно думаешь, что никогда не состареешься, вечно хороша будешь и что тебя здесь веки вечные держать будут? Я не говорю уж про то, что и здесь пакость... А впрочем, я вот что тебе про это скажу, про теперешнее-то твое житье: вот ты теперь хоть и молодая, пригожая, хорошая, с душой, с чувством; ну, а знаешь ли ты, что вот я, как только давеча очнулся, мне тотчас и гадко стало быть здесь с тобой! Только в пьяном виде ведь и можно сюда попасть. А будь ты в другом месте, живи, как добрые люди живут, так я, может быть, не то что волочился б за тобой, а просто влюбился б в тебя, рад бы взгляду был твоему, не то что слову; у ворот бы тебя подстерегал, на коленках бы перед тобой выстаивал; как на невесту б свою на тебя смотрел, да еще за честь почитал. Подумать про тебя что-нибудь нечистое не осмелился бы. А здесь я ведь знаю, что я только свистни, и ты, хочешь не хочешь, иди за мной, и уж не я с твоей волей спрашиваюсь, а ты с моей. Последний мужик наймется в работники - все-таки не всего себя закабалит, да и знает, что ему срок есть. А где твой срок? Подумай только: что ты здесь отдаешь? что кабалишь? Душу, душу, в которой ты невластна, кабалишь вместе с телом! Любовь свою на поругание всякому пьянице отдаешь! Любовь! - да ведь это всё, да ведь это алмаз, девичье сокровище, любовь-то! Ведь чтоб заслужить эту любовь, иной готов душу положить, на смерть пойти. А во что твоя любовь теперь ценится? Ты вся куплена, вся целиком, и зачем уж тут любви добиваться, когда и без любви все возможно. Да ведь обиды сильнее для девушки нет, понимаешь ли ты? Вот, слышал я, тешат вас, дур, - позволяют вам любовников здесь иметь. Да ведь это одно баловство, один обман, один смех над вами, а вы верите. Что он, в самом деле, что ли, любит тебя, любовник-то? Не верю. Как он будет любить, коли знает, что тебя от него сейчас кликнут. Пакостник он после этого! Уважает ли он тебя хоть на каплю? Что у тебя с ним общего? Смеется он над тобой да тебя же обкрадывает - вот и вся его любовь! Хорошо еще, что не бьет. А может, и бьет. Спроси-ка его, коли есть такой у тебя: женится ли он на тебе? Да он тебе в глаза расхохочется, если только не наплюет иль не прибьет, - а ему самому, может, всей-то цены - два сломанных гроша. И за что, подумаешь, ты здесь жизнь свою погубила? Что тебя кофеем поят да кормят сытно? Да ведь для чего кормят-то? У другой бы, честной, в горло такой кусок не пошел, потому что знает, для чего кормят. Ты здесь должна, ну и все будешь должна и до конца концов должна будешь, до тех самых пор, что тобой гости брезгать начнут. А это скоро придет, не надейся на молодость. Тут ведь это все на почтовых летит. Тебя и вытолкают. Да и не просто вытолкают, а задолго сначала придираться начнут, попрекать начнут, ругать начнут, - как будто не ты ей здоровье свое отдала, молодость и душу даром для нее загубила, а как будто ты-то ее и разорила, по миру пустила, обокрала. И не жди поддержки: другие подруги-то твои тоже на тебя нападут, чтоб ей подслужиться, потому что здесь все в рабстве, совесть и жалость давно потеряли. Исподлились, и уж гаже, подлее, обиднее этих ругательств и на земле не бывает. И все-то ты здесь положишь, все, без завета, - и здоровье, и молодость, и красоту, и надежды, и в двадцать два года будешь смотреть как тридцатипятилетняя, и хорошо еще, коль не больная, моли бога за это. Ведь ты теперь небось думаешь, что тебе и работы нет, гульба! Да тяжеле и каторжнее работы на свете нет и никогда не бывало. Одно сердце, кажется, все бы слезами изошло. И ни слова не посмеешь сказать, ни полслова, когда тебя погонят отсюда, пойдешь как виноватая. Перейдешь ты в другое место, потом в третье, потом еще куда-нибудь и доберешься наконец до Сенной. А там уж походя бить начнут; это любезность тамошняя; там гость и приласкать, не прибив, не умеет. Ты не веришь, что там так противно? Ступай, посмотри когда-нибудь, может, своими глазами увидишь. Я вон раз видел там на Новый год одну, у дверей. Ее вытолкали в насмешку свои же проморозить маленько за то, что уж очень ревела, а дверь за ней притворили. В девять-то часов утра она уж была совсем пьяная, растрепанная, полунагая, вся избитая. Сама набелена, а глаза в черняках; из носа и из зубов кровь течет: извозчик какой-то только что починил. Села она на каменной лесенке, в руках у ней какая-то соленая рыба была; она ревела, что-то причитала про свою "учась", а рыбой колотила по лестничным ступеням. А у крыльца столпились извозчики да пьяные солдаты и дразнили ее. Ты не веришь, что и ты такая же будешь? И я бы не хотел верить, а почем ты знаешь, может быть, лет десять, восемь назад, эта же самая, с соленой-то рыбой, - приехала сюда откуда-нибудь свеженькая, как херувимчик, невинная, чистенькая; зла не знала, на каждом слове краснела. Может быть, такая же, как ты, была, гордая, обидчивая, на других не похожая, королевной смотрела и сама знала, что целое счастье того ожидает, кто бы ее полюбил и кого бы она полюбила. Видишь, чем кончилось? И что, если в ту самую минуту, когда она колотила этой рыбой о грязные ступени, пьяная да растрепанная, что, если в ту минуту ей припомнились все ее прежние, чистые годы в отцовском доме, когда еще она в школу ходила, а соседский сын ее на дороге подстерегал, уверял, что всю жизнь ее любить будет, что судьбу свою ей положит, и когда они вместе положили любить друг друга навеки и обвенчаться, только что вырастут большие! Нет, Лиза, счастье, счастье тебе, если где-нибудь там, в углу, в подвале, как давешняя, в чахотке поскорее помрешь. В больницу, говоришь ты? Хорошо - свезут, а если ты еще хозяйке нужна? Чахотка такая болезнь; это не горячка. Тут до последней минуты человек надеется и говорит, что здоров. Сам себя тешит. А хозяйке-то и выгодно. Не беспокойся, это так; душу, значит, продала, а к тому же деньги должна, значит и пикнуть не смеешь. А умирать будешь, все тебя бросят, все отвернутся, - потому, что с тебя тогда взять? Еще тебя же попрекнут, что даром место занимаешь, не скоро помираешь. Пить не допросишься, с ругательством подадут: "Когда, дескать, ты, подлячка, издохнешь; спать мешаешь - стонешь, гости брезгают". Это верно; я сам подслушал такие слова. Сунут тебя, издыхающую, в самый смрадный угол в подвале, - темень, сырость; что ты, лежа-то одна, тогда передумаешь? Помрешь, - соберут наскоро, чужой рукой, с ворчаньем, с нетерпением, - никто-то не благословит тебя, никто-то не вздохнет по тебе, только бы поскорей тебя с плеч долой. Купят колоду, вынесут, как сегодня ту, бедную, выносили, в кабак поминать пойдут. В могиле слякоть, мразь, снег мокрый, - не для тебя же церемониться? "Спущай-ка ее, Ванюха; ишь ведь "учась" и тут верх ногами пошла, таковская. Укороти веревки-то, пострел". - Ладно и так. - "Чего ладно? Ишь на боку лежит. Человек тоже был али нет? Ну да ладно, засыпай". И ругаться-то из-за тебя долго не захотят. Засыплют поскорей мокрой синей глиной и уйдут в кабак... Тут и конец твоей памяти на земле; к другим дети на могилу ходят, отцы, мужья, а у тебя - ни слезы, ни вздоха, ни поминания, и никто-то, никто-то, никогда в целом мире не придет к тебе; имя твое исчезнет с лица земли - так, как бы совсем тебя никогда не бывало и не рождалось! Грязь да болото, хоть стучи себе там по ночам, когда мертвецы встают, в гробовую крышу: "Пустите, добрые люди, на свет пожить! Я жила - жизни не видала, моя жизнь на обтирку пошла; ее в кабаке на Сенной пропили; пустите, добрые люди, еще раз на свете пожить!.."
Я вошел в пафос до того, что у меня самого горловая спазма приготовлялась, и... вдруг я остановился, приподнялся в испуге и, наклонив боязливо голову, с бьющимся сердцем начал прислушиваться. Было от чего и смутиться.
Давно уже предчувствовал я, что перевернул всю ее душу и разбил ее сердце, и, чем больше я удостоверялся в том, тем больше желал поскорее и как можно сильнее достигнуть цели. Игра, игра увлекла меня; впрочем, не одна игра...
Я знал, что говорю туго, выделанно, даже книжно, одним словом, я иначе и не умел, как "точно по книжке". Но это не смущало меня; я ведь знал, предчувствовал, что меня поймут и что самая эта книжность может еще больше подспорить делу. Но теперь, достигнув эффекта, я вдруг струсил. Нет, никогда, никогда еще я не был свидетелем такого отчаяния! Она лежала ничком, крепко уткнув лицо в подушку и обхватив ее обеими руками. Ей разрывало грудь. Все молодое тело ее вздрагивало, как в судорогах. Спершиеся в груди рыдания теснили, рвали ее и вдруг воплями, криками вырывались наружу. Тогда еще сильнее приникала она к подушке: ей не хотелось, чтобы кто-нибудь здесь, хоть одна живая душа узнала про ее терзание и слезы. Она кусала подушку, прокусила руку свою в кровь (я видел это потом) или, вцепившись пальцами в свои распутавшиеся косы, так и замирала в усилии, сдерживая дыхание и стискивая зубы. Я было начал что-то говорить ей, просить ее успокоиться, но почувствовал, что не смею, и вдруг сам, весь в каком-то ознобе, почти в ужасе, бросился ощупью, кое-как наскоро сбираться в дорогу. Было темно: как ни старался я, но не мог кончить скоро. Вдруг я ощупал коробку спичек и подсвечник с цельной непочатой свечой. Только лишь свет озарил комнату, Лиза вдруг вскочила, села и с каким-то искривленным лицом, с полусумасшедшей улыбкой, почти бессмысленно посмотрела на меня. Я сел подле нее и взял ее руки; она опомнилась, бросилась ко мне, хотела было обхватить меня, но не посмела и тихо наклонила передо мной голову.
– Лиза, друг мой, я напрасно... ты прости меня, - начал было я, - но она сжала в своих пальцах мои руки с такою силою, что я догадался, что не то говорю, и перестал.
– Вот мой адрес, Лиза, приходи ко мне.
– Приду... - прошептала она решительно, все еще не подымая своей головы.
– А теперь я уйду, прощай... до свидания.
Я встал, встала и она и вдруг вся закраснелась, вздрогнула, схватила лежавший на стуле платок и набросила себе на плечи до самого подбородка. Сделав это, она опять как-то болезненно улыбнулась, покраснела и странно поглядела на меня. Мне было больно; я спешил уйти, стушеваться.
– Подождите, - сказала она вдруг, уже в сенях у самых дверей, останавливая меня рукою за шинель, поставила впопыхах свечу и убежала, - видно, вспомнила про что-то или хотела мне принести показать. Убегая, она вся покраснела, глаза ее блестели, на губах показалась улыбка, - что бы такое? Я поневоле дождался; она воротилась через минуту, со взглядом, как будто бросившим прощения за что-то. Вообще это уже было не то лицо, не тот взгляд, как давеча, - угрюмый, недоверчивый и упорный. Взгляд теперь ее был просящий, мягкий, а вместе с тем доверчивый, ласковый, робкий. Так смотрят дети на тех, кого очень любят и у кого чего-нибудь просят. Глаза у ней были светло-карие, прекрасные глаза, живые, умевшие отразить в себе и любовь, и угрюмую ненависть.
Не объясняя мне ничего, - как будто я, как какое-нибудь высшее существо, должен был знать все без объяснений, - она протянула мне бумажку. Все лицо ее так и просияло в это мгновение самым наивным, почти детским торжеством. Я развернул. Это было письмо к ней от какого-то медицинского студента или в этом роде, - очень высокопарное, цветистое, но чрезвычайно почтительное объяснение в любви. Не припомню теперь выражений, но помню очень хорошо, что сквозь высокий слог проглядывало истинное чувство, которого не подделаешь. Когда я дочитал, то встретил горячий, любопытный и детски-нетерпеливый взгляд ее на себе. Она приковалась глазами к моему лицу и в нетерпении ждала - что я скажу? В нескольких словах, наскоро, но как-то радостно и как будто гордясь, она объяснила мне, что была где-то на танцевальном вечере, в семейном доме, у одних "очень, очень хороших людей, семейных людей и где ничего еще не знают, совсем ничего", - потому что она и здесь-то еще только внове и только так... а вовсе еще не решилась остаться и непременно уйдет, как только долг заплатит... "Ну и там был этот студент, весь вечер танцевал, говорил с ней, и оказалось, что он еще в Риге, еще ребенком был с ней знаком, вместе играли, только уж очень давно, - и родителей ее знает, но что об этом он ничего-ничего-ничего не знает и не подозревает! И вот на другой день после танцев (три дня назад) он и прислал через приятельницу, с которой она на вечер ездила, это письмо... и... ну вот и все".
Она как-то стыдливо опустила свои сверкавшие глаза, когда кончила рассказывать.
Бедненькая, она хранила письмо этого студента как драгоценность и сбегала за этой единственной своей драгоценностью, не желая, чтоб я ушел, не узнав о том, что и ее любят честно и искренно, что и с ней говорят почтительно. Наверно, этому письму так и суждено было пролежать в шкатулке без последствий. Но все равно; я уверен, что она всю жизнь его хранила бы как драгоценность, как гордость свою и свое оправдание, и вот теперь сама в такую минуту вспомнила и принесла это письмо, чтоб наивно погордиться передо мной, восстановить себя в моих глазах, чтоб и я видел, чтоб и я похвалил. Я ничего не сказал, пожал ей руку и вышел. Мне так хотелось уйти... Я прошел всю дорогу пешком, несмотря на то, что мокрый снег все еще валил хлопьями. Я был измучен, раздавлен, в недоумении. Но истина уже сверкала из-за недоумения. Гадкая истина!
VIII
Я, впрочем, не скоро согласился признать эту истину. Проcнувшись наутро после нескольких часов глубокого, свинцового сна и тотчас же сообразив весь вчерашний день, я даже изумился моей вчерашней сантиментальности с Лизой, всем этим "вчерашним ужасам и жалостям". "Ведь нападет же такое бабье расстройство нервов, тьфу! - порешил я. - И на что это мой адрес всучил я ей? Что, если она придет? А впрочем, пожалуй, пусть и придет; ничего..." Но, очевидно, главное и самое важное дело теперь было не в этом: надо было спешить и во что бы ни стало скорее спасать мою репутацию в глазах Зверкова и Симонова. Вот в чем было главное дело. А про Лизу я даже совсем и забыл в это утро, захлопотавшись.
Прежде всего надо было немедленно отдать вчерашний долг Симонову. Я решился на отчаянное средство: занять целых пятнадцать рублей у Антона Антоновича. Как нарочно, он был в это утро в прекраснейшем расположении духа и тотчас же выдал, по первой просьбе. Я так этому обрадовался, что, подписывая расписку, с каким-то ухарским видом, небрежно сообщил ему, что вчера "покутили с приятелями в Hotel de Paris; провожали товарища, даже, можно сказать, друга детства, и, знаете, - кутила он большой, избалован, - ну, разумеется, хорошей фамилии, значительное состояние, блестящая карьера, остроумен, мил, интригует с этими дамами, понимаете: выпили лишних "полдюжины" и..." И ведь ничего; произносилось все это очень легко, развязно и самодовольно.
Придя домой, я немедленно написал Симонову.
До сих пор любуюсь, вспоминая истинно джентльменский, добродушный, открытый тон моего письма. Ловко и благородно, а, главное, совершенно без лишних слов, я обвинил себя во всем. Оправдывался я, "если только позволительно мне еще оправдываться", тем, что, по совершенной непривычке к вину, опьянел с первой рюмки, которую (будто бы) выпил еще до них, когда поджидал их в Hotel de Paris с пяти до шести часов. Извинения просил я преимущественно у Симонова; его же просил передать мои объяснения и всем другим, особенно Зверкову, которого, "помнится мне, как сквозь сон", я, кажется, оскорбил. Я прибавлял, что и сам бы ко всем поехал, да голова болит, а пуще всего - совестно. Особенно доволен остался я этой "некоторой легкостью", даже чуть не небрежностию (впрочем, совершенно приличною), которая вдруг отразилась в моем пере и лучше всех возможных резонов, сразу, давала им понять, что я смотрю "на всю эту вчерашнюю гадость" довольно независимо; совсем-таки, вовсе-таки не убит наповал, как вы, господа, вероятно, думаете, а напротив, смотрю так, как следует смотреть на это спокойно уважающему себя джентльмену. Быль, дескать, молодцу не укор.
– Даже ведь какая-то игривость маркизская? - любовался я, перечитывая записку. - А все оттого, что развитой и образованный человек! Другие бы на моем месте не знали, как и выпутаться, а я вот вывернулся и кучу себе вновь, и все потому, что "образованный и развитой человек нашего времени". Да и впрямь, пожалуй, это все от вина вчера произошло. Гм... ну нет, не от вина. Водки-то я вовсе не пил, от пяти-то до шести часов, когда их поджидал. Солгал Симонову; солгал бессовестно; да и теперь не совестно...
А впрочем, наплевать! Главное то, что отделался.
Я вложил в письмо шесть рублей, запечатал и упросил Аполлона снести к Симонову. Узнав, что в письме деньги, Аполлон стал почтительнее и согласился сходить. К вечеру я вышел пройтись. Голова у меня еще болела и кружилась со вчерашнего. Но чем более наступал вечер и чем гуще становились сумерки, тем более менялись и путались мои впечатления, а за ними и мысли. Что-то не умирало во мне внутри, в глубине сердца и совести, не хотело умереть и сказывалось жгучей тоской. Толкался я больше по самым людным, промышленным улицам, по Мещанским, по Садовой, у Юсупова сада. Особенно любил я всегда прохаживаться по этим улицам в сумерки, именно когда там густеет толпа всякого прохожего, промышленного и ремесленного люду, с озабоченными до злости лицами, расходящаяся по домам с дневных заработков. Нравилась мне именно эта грошовая суетня, эта наглая прозаичность. В этот раз вся эта уличная толкотня еще больше меня раздражала. Я никак не мог с собой справиться, концов найти. Что-то подымалось, подымалось в душе беспрерывно, с болью, и не хотело угомониться. Совсем расстроенный я воротился домой. Точно как будто на душе моей лежало какое-то преступление.
Мучила меня постоянно мысль, что придет Лиза. Странно мне было то, что из всех этих вчерашних воспоминаний воспоминание о ней как-то особенно, как-то совсем отдельно меня мучило. Обо всем другом я к вечеру уже совсем успел забыть, рукой махнул и все еще совершенно оставался доволен моим письмом к Симонову. Но тут я как-то уж не был доволен. Точно как будто я одной Лизой и мучился. "Что, если она придет? - думал я беспрерывно. - Ну что ж, ничего, пусть и придет. Гм. Скверно уж одно то, что она увидит, например, как я живу. Вчера я таким перед ней показался... героем... а теперь, гм! Это, впрочем, скверно, что я так опустился. Просто нищета в квартире. И я решился вчера ехать в таком платье обедать! А клеенчатый диван-то мой, из которого мочалка торчит! А халат-то мой, которым нельзя закрыться! Какие клочья... И она это все увидит; и Аполлона увидит. Эта скотина, наверно, ее оскорбит. Он придерется к ней, чтоб мне сделать грубость. А я уж, разумеется, по обычаю, струшу, семенить перед ней начну, закрываться полами халата, улыбаться начну, лгать начну. У, скверность! Да и не в этом главная-то скверность! Тут есть что-то главнее, гаже, подлее! да, подлее! И опять, опять надевать эту бесчестную лживую маску!.."
Дойдя до этой мысли, я так и вспыхнул:
"Для чего бесчестную? Какую бесчестную? Я говорил вчера искренно. Я помню, во мне тоже было настоящее чувство. Я именно хотел вызвать в ней благородные чувства... если она поплакала, то это хорошо, это благотворно подействует..."
Но все-таки я никак не мог успокоиться.
Весь этот вечер, уже когда я и домой воротился, уже после девяти часов, когда, по расчету, никак не могла прийти Лиза, мне все-таки она мерещилась и, главное, вспоминалась все в одном и том же положении. Именно один момент из всего вчерашнего мне особенно ярко представлялся: это когда я осветил спичкой комнату и увидал ее бледное, искривленное лицо, с мученическим взглядом. И какая жалкая, какая неестественная, какая искривленная улыбка у ней была в ту минуту! Но я еще не знал тогда, что и через пятнадцать лет я все-таки буду представлять себе Лизу именно с этой жалкой, искривленной, ненужной улыбкой, которая у ней была в ту минуту.
На другой день я уже опять готов был считать все это вздором, развозившимися нервами, а главное - преувеличением. Я всегда сознавал эту мою слабую струнку и иногда очень боялся ее: "все-то я преувеличиваю, тем и хромаю", - повторял я себе ежечасно. Но, впрочем, "впрочем, все-таки Лиза, пожалуй, придет" - вот припев, которым заключались все мои тогдашние рассуждения. До того я беспокоился, что приходил иногда в бешенство. "Придет! непременно придет! - восклицал я, бегая по комнате, - не сегодня, так завтра придет, а уж отыщет! И таков проклятый романтизм всех этих чистых сердец! О мерзость, о глупость, о ограниченность этих "поганых сантиментальных душ"! Ну, как не понять, как бы, кажется, не понять?.." - Но тут я сам останавливался и даже в большом смущении.
"И как мало, мало, - думал я мимоходом, - нужно было слов, как мало нужно было идиллии (да и идиллии-то еще напускной, книжной, сочиненной), чтоб тотчас же и повернуть всю человеческую душу по-своему. То-то девственность-то! То-то свежесть-то почвы!"
Иногда мне приходила мысль самому съездить к ней, "рассказать ей все" и упросить ее не приходить ко мне. Но тут, при этой мысли, во мне подымалась такая злоба, что, кажется, я бы так и раздавил эту "проклятую" Лизу, если б она возле меня вдруг случилась, оскорбил бы ее, оплевал бы, выгнал бы, ударил бы!
Прошел, однако ж, день, другой, третий - она не приходила, и я начинал успокоиваться. Особенно ободрялся и разгуливался я после девяти часов, даже начинал иногда мечтать и довольно сладко: "Я, например, спасаю Лизу, именно тем, что она ко мне ходит, а я ей говорю... Я ее развиваю, образовываю. Я, наконец, замечаю, что она меня любит, страстно любит. Я прикидываюсь, что не понимаю (не знаю, впрочем, для чего прикидываюсь; так, для красы, вероятно). Наконец она, вся смущенная, прекрасная, дрожа и рыдая, бросается к ногам моим и говорит, что я ее спаситель и что она меня любит больше всего на свете. Я изумляюсь, но... "Лиза, - говорю я, - неужели ж ты думаешь, что я не заметил твоей любви? Я видел все, я угадал, но я не смел посягать на твое сердце первый, потому что имел на тебя влияние и боялся, что ты, из благодарности, нарочно заставишь себя отвечать на любовь мою, сама насильно вызовешь в себе чувство, которого, может быть, нет, а я этого не хотел, потому что это... деспотизм... Это неделикатно(ну, одним словом, я тут зарапортовывался в какой-нибудь такой европейской, жорж-зандовской, неизъяснимо благородной тонкости...). Но теперь, теперь - ты моя, ты мое созданье, ты чиста, прекрасна, ты - прекрасная жена моя.
И в дом мой смело и свободно
Хозяйкой полною войди!"[19]
Затем мы начинаем жить-поживать, едем за границу и т. д., и т. д.". Одним словом, самому подло становилось, и я кончал тем, что дразнил себя языком.
"Да и не пустят ее, "мерзавку"! - думал я. - Их ведь, кажется, гулять-то не очень пускают, тем более вечером (мне почему-то непременно казалось, что она должна прийти вечером и именно в семь часов). А впрочем, она сказала, что еще не совсем там закабалилась, на особых правах состоит; значит, гм! Черт возьми, придет, непременно придет!"
Хорошо еще, что развлекал меня в это время Аполлон своими грубостями. Из терпенья последнего выводил! Это была язва моя, бич, посланный на меня провиденьем. Мы с ним пикировались постоянно, несколько лет сряду, и я его ненавидел. Бог мой, как я его ненавидел! Никого в жизни я еще, кажется, так не ненавидел, как его, особенно в иные минуты. Человек он был пожилой, важный, занимавшийся отчасти портняжеством. Но неизвестно почему, он презирал меня, даже сверх всякой меры, и смотрел на меня нестерпимо свысока. Впрочем, он на всех смотрел свысока. Взглянуть только на эту белобрысую, гладко причесанную голову, на этот кок, который он взбивал себе на лбу и подмасливал постным маслом, на этот солидный рот, всегда сложенный ижицей, - и вы уже чувствовали перед собой существо, не сомневавшееся в себе никогда. Это был педант в высочайшей степени, и самый огромный педант из всех, каких я только встречал на земле; и при этом с самолюбием, приличным разве только Александру Македонскому. Он был влюблен в каждую пуговицу свою, в каждый свой ноготь - непременно влюблен, он тем смотрел! Относился он ко мне вполне деспотически, чрезвычайно мало говорил со мной, а если случалось ему на меня взглядывать, то смотрел твердым, величаво самоуверенным и постоянно насмешливым взглядом, приводившим меня иногда в бешенство. Исполнял он свою должность с таким видом, как будто делал мне высочайшую милость. Впрочем, он почти ровно ничего для меня не делал и даже вовсе не считал себя обязанным что-нибудь делать. Сомнения быть не могло, что он считал меня за самого последнего дурака на всем свете, и если "держал меня при себе", то единственно потому только, что от меня можно было получать каждый месяц жалованье. Он соглашался "ничего не делать" у меня за семь рублей в месяц. Мне за него много простится грехов. Доходило иногда до такой ненависти, что меня бросало чуть не в судороги от одной его походки. Но особенно гадко было мне его пришепетывание. У него был язык несколько длиннее, чем следует, или что-то вроде этого, оттого он постоянно шепелявил и сюсюкал и, кажется, этим ужасно гордился, воображая, что это придает ему чрезвычайно много достоинства. Говорил он тихо, размеренно, заложив руки за спину и опустив глаза в землю. Особенно бесил он меня, когда, бывало, начнет читать у себя за перегородкой Псалтырь. Много битв вынес я из-за этого чтенья. Но он ужасно любил читать по вечерам, тихим, ровным голосом,. нараспев, точно как по мертвом. Любопытно, что он тем и кончил: он теперь нанимается читать Псалтырь по покойникам, а вместе с тем истребляет крыс и делает ваксу. Но тогда я не мог прогнать его, точно он был слит с существованием моим химически. К тому же он бы и сам не согласился от меня уйти ни за что. Мне нельзя было жить в шамбр-гарни[ix]: моя квартира была мой особняк, моя скорлупа, мой футляр, в который я прятался от всего человечества, а Аполлон, черт знает почему, казался мне принадлежащим к этой квартире, и я целых семь лет не мог согнать его.
Задержать, например, его жалованье хоть два, хоть три дня было невозможно. Он бы такую завел историю, что я бы не знал, куда и деваться. Но в эти дни я до того был на всех озлоблен, что решился, почему-то и для чего-то, наказать Аполлона и не выдавать ему еще две недели жалованья. Я давно уж, года два, собирался это сделать - единственно чтоб доказать ему, что он не смеет так уж важничать надо мной и что если я захочу, то всегда могу не выдать ему жалованья. Я положил не говорить ему об этом и даже нарочно молчать, чтоб победить его гордость и заставить его самого, первого, заговорить о жалованье. Тогда я выну все семь рублей из ящика, покажу ему, что они у меня есть и нарочно отложены, но что я "не хочу, не хочу, просто не хочу выдать ему жалованье, не хочу, потому что так хочу", потому что на это "моя воля господская", потому что он непочтителен, потому что он грубиян; но что если он попросит почтительно, то я, пожалуй, смягчусь и дам; не то еще две недели прождет, три прождет, целый месяц прождет...
Но как я ни был зол, а все-таки он победил. Я и четырех дней не выдержал. Он начал с того, с чего всегда начинал в подобных случаях, потому что подобные случаи уже бывали, пробовались (и, замечу, я знал все это заранее, я знал наизусть его подлую тактику), именно: он начинал с того, что устремит, бывало, на меня чрезвычайно строгий взгляд, не спускает его несколько минут сряду, особенно встречая меня или провожая из дому. Если, например, я выдерживал и делал вид, что не замечаю этих взглядов, он, по-прежнему молча, приступал к дальнейшим истязаниям. Вдруг, бывало, ни с того ни с сего, войдет тихо и плавно в мою комнату, когда я хожу или читаю, остановится у дверей, заложит одну руку за спину, отставит ногу и устремит на меня свой взгляд, уж не то что строгий, а совсем презрительный. Если я вдруг спрошу его, что ему надо? - он не ответит ничего, продолжает смотреть на меня в упор еще несколько секунд, потом, как-то особенно сжав губы, с многозначительным видом, медленно повернется на месте и медленно уйдет в свою комнату. Часа через два вдруг опять выйдет и опять так же передо мной появится. Случалось, что я, в бешенстве, уж и не спрашивал его: чего ему надо? а просто сам резко и повелительно подымал голову и тоже начинал смотреть на него в упор. Так смотрим мы, бывало, друг на друга минуты две; наконец он повернется, медленно и важно, и уйдет опять на два часа.
Если я и этим все еще не вразумлялся и продолжал бунтоваться, то он вдруг начнет вздыхать, на меня глядя, вздыхать долго, глубоко, точно измеряя одним этим вздохом всю глубину моего нравственного падения, и, разумеется, кончалось наконец тем, что он одолевал вполне: я бесился, кричал, но то, об чем дело шло, все-таки принуждаем был исполнить.
В этот же раз едва только начались обыкновенные маневры "строгих взглядов", как я тотчас же вышел из себя и в бешенстве на него накинулся. Слишком уж я был и без того раздражен.
– Стой! - закричал я в исступлении, когда он медленно и молча повертывался, с одной рукой за спиной, чтоб уйти в свою комнату, - стой! воротись, воротись, говорю я тебе! - и, должно быть, я так неестественно рявкнул, что он повернулся и даже с некоторым удивлением стал меня разглядывать. Впрочем, продолжал не говорить ни слова, а это-то меня и бесило.
– Как ты смеешь входить ко мне без спросу и так глядеть на меня? Отвечай!
Но посмотрев на меня спокойно с полминуты, он снова начал повертываться.
– Стой! - заревел я, подбегая к нему, - ни с места! Так. Отвечай теперь: чего ты входил смотреть?
– Если таперича вам есть что мне приказать, то мое дело исполнить, - отвечал он, опять-таки помолчав, тихо и размеренно сюсюкая, подняв брови и спокойно перегнув голову с одного плеча на другое, - и все это с ужасающим спокойствием.
– Не об этом, не об этом я тебя спрашиваю, палач! - закричал я, трясясь от злобы. - Я скажу тебе, палач, сам, для чего ты приходишь сюда: ты видишь, что я не выдаю тебе жалованья, сам не хочешь, по гордости, поклониться - попросить, и для того приходишь с своими глупыми взглядами меня наказывать, мучить, и не подозр-р-реваешь ты, палач, как это глупо, глупо, глупо, глупо, глупо!
Он было молча опять стал повертываться, но я ухватил его.
– Слушай, - кричал я ему. - Вот деньги, видишь; вот они! (я вынул их из столика) все семь рублей, но ты их не получишь, не па-алучишь до тех самых пор, пока не придешь почтительно, с повинной головой, просить у меня прощения. Слышал!
– Быть того не может! - отвечал он с какою-то неестественною самоуверенностью.
– Будет! - кричал я, - даю тебе честное слово мое, будет!
– И не в чем мне у вас прощения просить, - продолжал он, как бы совсем не замечая моих криков, - потому вы же обозвали меня "палачом", на чем я с вас могу в квартале всегда за обиду просить.
– Иди! Проси! - заревел я, - иди сейчас, сию минуту, сию секунду! А ты все-таки палач! палач! палач! - Но он только посмотрел на меня, затем повернулся и, уже не слушая призывных криков моих, плавно пошел к себе, не оборачиваясь.
"Если б не Лиза, не было б ничего этого!" - решил я про себя. Затем, постояв с минуту, важно и торжественно, но с медленно и сильно бьющимся сердцем, я отправился сам к нему за ширмы.
– Аполлон! - сказал я тихо и с расстановкой, но задыхаясь, - сходи тотчас же и нимало не медля за квартальным надзирателем!
Он было уж уселся тем временем за своим столом, надел очки и взял что-то шить. Но, услышав мое приказанье, вдруг фыркнул со смеху.
– Сейчас, сию минуту иди! - иди, или ты и не воображаешь, что будет!
– Подлинно вы не в своем уме, - заметил он, даже не подняв головы, так же медленно сюсюкая и продолжая вдевать нитку. - И где это видано, чтоб человек сам против себя за начальством ходил? А касательно страху, - напрасно только надсажаетесь, потому - ничего не будет.
– Иди! - визжал я, хватая его за плечо. Я чувствовал, что сейчас ударю его.
Но я и не слыхал, как в это мгновение вдруг дверь из сеней тихо и медленно отворилась и какая-то фигура вошла, остановилась и с недоумением начала нас разглядывать. Я взглянул, обмер со стыда и бросился в свою комнату. Там, схватив себя обеими руками за волосы, я прислонился головой к стене и замер в этом положении.
Минуты через две послышались медленные шаги Аполлона.
– Там какая-то вас спрашивает, - сказал он, особенно строго смотря на меня, потом посторонился и пропустил - Лизу. Он не хотел уходить и насмешливо нас рассматривал.
– Ступай! ступай! - командовал я ему потерявшись. В эту минуту мои часы принатужились, прошипели и пробили семь.
IX
И в дом мой смело и свободно
Хозяйкой полною войди!"
Из той же поэзии
Я стоял перед ней убитый, ошельмованный, омерзительно сконфуженный и, кажется, улыбался, всеми силами стараясь запахнуться полами моего лохматого, ватного халатишки, - ну точь-в-точь, как еще недавно, в упадке духа, представлял себе. Аполлон, постояв над нами минуты две, ушел, но мне было не легче. Хуже всего, что и она тоже вдруг сконфузилась, до того, что я даже и не ожидал. На меня глядя, разумеется.
– Садись, - сказал я машинально и придвинул ей стул возле стола, сам же сел на диван. Она тотчас же и послушно уселась, смотря на меня во все глаза и, очевидно, чего-то сейчас от меня ожидая. Эта-то наивность ожидания и привела меня в бешенство, но я сдержал себя.
Тут-то бы и стараться ничего не замечать, как будто все по-обыкновенному, а она... И я смутно почувствовал, что она дорого мне за все это заплатит.
– Ты меня застала в странном положении, Лиза, - начал я, заикаясь и зная, что именно так-то и не надо начинать.
– Нет, нет, не думай чего-нибудь! - вскричал я, увидев, что она вдруг покраснела, - я не стыжусь моей бедности... Напротив, я гордо смотрю на мою бедность. Я беден, но благороден... Можно быть бедным и благородным, - бормотал я. - Впрочем,.. хочешь чаю?
– Нет... - начала было она.
– Подожди!
Я вскочил и побежал к Аполлону. Надо же было куда-нибудь провалиться.
– Аполлон, - зашептал я лихорадочной скороговоркой, бросая перед ним семь рублей, остававшиеся все время в моем кулаке, - вот твое жалованье; видишь, я выдаю; но зато ты должен спасти меня: немедленно принеси из трактира чаю и десять сухарей. Если ты не захочешь пойти, то ты сделаешь несчастным человека! Ты не знаешь, какая это женщина... Это - все! Ты, может быть, что-нибудь думаешь... Но ты не знаешь, какая это женщина!..
Аполлон, уже усевшийся за работу и уже надевший опять очки, сначала, не покидая иглы, молча накосился на деньги; потом, не обращая на меня никакого внимания и не отвечая мне ничего, продолжал возиться с ниткой, которую все еще вдевал. Я ждал минуты три, стоя перед ним, с сложенными a la Napoleon pуками. Виски мои были смочены потом; сам я был бледен, я чувствовал это. Но, слава богу, верно ему стало жалко, смотря на меня. Кончив с своей ниткой, он медленно привстал с места, медленно отодвинул стул, медленно снял очки, медленно пересчитал деньги и наконец, спросив меня через плечо: взять ли полную порцию? медленно вышел из комнаты. Когда я возвращался к Лизе, мне пришло на ум дорогой: не убежать ли так, как есть, в халатишке, куда глаза глядят, а там будь что будет.
Я уселся опять. Она смотрела на меня с беспокойством. Несколько минут мы молчали.
– Я убью его! - вскричал я вдруг, крепко хлопнув по столу кулаком, так что чернила плеснули из чернильницы.
– Ах, что вы это! - вскричала она, вздрогнув.
– Я убью его, убью его! - визжал я, стуча по столу, совершенно в исступлении и совершенно понимая в то же время, как это глупо быть в таком исступлении.
– Ты не знаешь, Лиза, что такое этот палач для меня. Он мой палач... Он пошел теперь за сухарями; он...
И вдруг я разразился слезами. Это был припадок. Как мне стыдно-то было между всхлипываний; но я уж их не мог удеpжать. Она испугалась.
– Что с вами! что это с вами! - вскрикивала она, суетясь около меня.
– Воды, подай мне воды, вон там! - бормотал я слабым голосом, сознавая, впрочем, про себя, что я очень бы мог обойтись без воды и не бормотать слабым голосом. Но я, что называется, представлялся, чтоб спасти приличия, хотя припадок был и действительный.
Она подала мне воды, смотря на меня как потерянная. В эту минуту Аполлон внес чай. Мне вдруг показалось, что этот обыкновенный и прозаический чай ужасно неприличен и мизерен после всего, что было, и я покраснел. Лиза смотрела на Аполлона даже с испугом. Он вышел, не взглянув на нас.
– Лиза, ты презираешь меня? - сказал я, смотря на нее в упор, дрожа от нетерпения узнать, что она думает.
Она сконфузилась и не сумела ничего ответить.
– Пей чай! - проговорил я злобно. Я злился на себя, но, разумеется, достаться должно было ей. Страшная злоба против нее закипела вдруг в моем сердце; так бы и убил ее, кажется. Чтоб отмстить ей, я поклялся мысленно не говорить с ней во все время ни одного слова. "Она же всему причиною", - думал я.
Молчание наше продолжалось уже минут пять. Чай стоял на столе; мы до него не дотрогивались: я до того дошел, что нарочно не хотел начинать пить, чтоб этим отяготить ее еще больше; ей же самой начинать было неловко. Несколько раз она с грустным недоумением взглянула на меня. Я упорно молчал. Главный мученик был, конечно, я сам, потому что вполне сознавал всю омерзительную низость моей злобной глупости, и в то же время никак не мог удержать себя.
– Я оттуда... хочу... совсем выйти, - начала было она, чтобы как-нибудь прервать молчанье, но, бедная! именно об этом-то и не надо было начинать говорить в такую и без того глупую минуту, такому, и без того глупому, как я, человеку. Даже мое сердце заныло от жалости на ее неумелость и ненужную прямоту. Но что-то безобразное подавило во мне тотчас же всю жалость; даже еще подзадорило меня еще более: пропадай все на свете! Прошло еще пять минут.
– Не помешала ли я вам? - начала она робко, чуть слышно, и стала вставать.
Но как только я увидал эту первую вспышку оскорбленного достоинства, я так и задрожал от злости и тотчас же прорвался.
– Для чего ты ко мне пришла, скажи ты мне, пожалуйста? - начал я, задыхаясь и даже не соображаясь с логическим порядком в моих словах. Мне хотелось все разом высказать, залпом; я даже не заботился, с чего начинать.
– Зачем ты пришла? Отвечай! Отвечай! - вскрикивал я, едва помня себя. - Я тебе скажу, матушка, зачем ты пришла. Ты пришла потому, что я тебе тогда жалкие слова говорил. Ну вот ты и разнежилась и опять тебе "жалких слов" захотелось. Так знай же, знай, что я тогда смеялся над тобой. И тепеpь смеюсь. Чего ты дpожишь? Да, смеялся! Меня пеpед тем оскоpбили за обедом вот те, котоpые тогда пеpедо мной пpиехали. Я пpиехал к вам с тем, чтоб исколотить одного из них, офицеpа; но не удалось, не застал; надо же было обиду на ком-нибудь выместить, свое взять, ты подвернулась, я над тобой и вылил зло и насмеялся. Меня унизили, так и я хотел унизить; меня в тpяпку pастеpли, так и я власть захотел показать... Вот что было, а ты уж думала, что я тебя спасать наpочно тогда пpиезжал, да? ты это думала? Ты это думала?
Я знал, что она, может быть, запутается и не поймет подробностей; но я знал тоже, что она отлично хорошо поймет сущность. Так и случилось. Она побледнела, как платок, хотела что-то проговорить, губы ее болезненно искривились; но как будто ее топором подсекли, упала на стул. И все время потом она слушала меня, раскрыв рот, открыв глаза и дрожа от ужасного страха. Цинизм, цинизм моих слов придавил ее...
– Спасать! - продолжал я, вскочив со стула и бегая перед ней взад и вперед по комнате, - от чего спасать! Да я, может, сам тебя хуже. Что ты мне тогда же не кинула в рожу, когда я тебе рацеи-то читал: "А ты, мол, сам зачем к нам зашел? Мораль, что ли, читать?" Власти, власти мне надо было тогда, игры было надо, слез твоих надо было добиться, унижения, истерики твоей - вот чего надо мне было тогда! Я ведь и сам тогда не вынес, потому что я дрянь, перепугался и черт знает для чего дал тебе сдуру адрес. Так я потом, еще домой не дойдя, уж тебя ругал на чем свет стоит за этот адрес. Я уж ненавидел тебя, потому что я тебе тогда лгал. Потому что я только на словах поиграть, в голове помечтать, а на деле мне надо, знаешь чего: чтоб вы провалились, вот чего! Мне надо спокойствия. Да я за то, чтоб меня не беспокоили, весь свет сейчас же за копейку продам. Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить. Знала ль ты это, или нет? Ну, а я вот знаю, что я мерзавец, подлец, себялюбец, лентяй. Я вот дрожал эти три дня от страха, что ты придешь. А знаешь, что все эти три дня меня особенно беспокоило? А то, что вот я тогда героем таким перед тобой представился, а тут вот ты вдруг увидишь меня в этом рваном халатишке, нищего, гадкого. Я тебе сказал давеча, что я не стыжусь своей бедности; так знай же, что стыжусь, больше всего стыжусь, пуще всего боюсь, пуще того, если б я воровал, потому что я тщеславен так, как будто с меня кожу содрали, и мне уж от одного воздуха больно. Да неужели ж ты даже и теперь еще не догадалась, что я тебе никогда не прощу того, что ты застала меня в этом халатишке, когда я бросался, как злая собачонка, на Аполлона. Воскреситель-то, бывший-то герой, бросается, как паршивая, лохматая шавка, на своего лакея, а тот смеется над ним! И слез давешних, которых перед тобой я, как пристыженная баба, не мог удержать, никогда тебе не прощу! И того, в чем теперь тебе признаюсь, тоже никогда тебе не прощу! Да, - ты, одна ты за все это ответить должна, потому что ты так подвернулась, потому что я мерзавец, потому что я самый гадкий, самый смешной, самый мелочной, самый глупый, самый завистливый из всех на земле червяков, которые вовсе не лучше меня, но которые, черт знает отчего, никогда не конфузятся; а вот я так всю жизнь от всякой гниды буду щелчки получать - и это моя черта! Да какое мне дело до того, что ты этого ничего не поймешь! И какое, ну какое, какое дело мне до тебя и до того, погибаешь ты там или нет? Да понимаешь ли ты, как я теперь, высказав тебе это, тебя ненавидеть буду за то, что ты тут была и слушала? Ведь человек раз в жизни только так высказывается, да и то в истерике!.. Чего ж тебе еще? Чего ж ты еще, после всего этого, торчишь передо мной, мучаешь меня, не уходишь?
Но тут случилось вдруг странное обстоятельство.
Я до того привык думать и воображать все по книжке и представлять себе все на свете так, как сам еще прежде в мечтах сочинил, что даже сразу и не понял тогда этого странного обстоятельства. А случилось вот что: Лиза, оскорбленная и раздавленная мною, поняла гораздо больше, чем я воображал себе. Она поняла из всего этого то, что женщина всегда прежде всего поймет, если искренно любит, а именно: что я сам несчастлив.
Испуганное и оскорбленное чувство сменилось на лице ее сначала горестным изумлением. Когда же я стал называть себя подлецом и мерзавцем и полились мои слезы (я проговорил всю эту тираду со слезами), все лицо ее передернулось какой-то судорогой. Она хотела было встать, остановить меня; когда же я кончил, она не на крики мои обратила внимание: "Зачем ты здесь, зачем не уходишь!" - а на то, что мне, должно быть, очень тяжело самому было все это выговорить. Да и забитая она была такая, бедная; она считала себя бесконечно ниже меня; где ж ей было озлиться, обидеться? Она вдруг вскочила со стула в каком-то неудержимом порыве и, вся стремясь ко мне, но все еще робея и не смея сойти с места, протянула ко мне руки... Тут сердце и во мне перевернулось. Тогда она вдруг бросилась ко мне, обхватила мою шею руками и заплакала. Я тоже не выдержал и зарыдал так, как никогда еще со мной не бывало...
– Мне не дают... Я не могу быть... добрым! - едва проговорил я, затем дошел до дивана, упал на него ничком и четверть часа рыдал в настоящей истерике. Она припала ко мне, обняла меня и как бы замеpла в этом объятии.
Но все-таки штука была в том, что истерика должна же была пройти. И вот (я ведь омерзительную правду пишу), лежа ничком да диване, накрепко, и уткнув лицо в дрянную кожаную подушку мою, я начал помаленьку, издалека, невольно, но неудеpжимо ощущать, что ведь мне тепеpь неловко будет поднять голову и посмотpеть Лизе пpямо в глаза. Чего мне было стыдно? - не знаю, но мне было стыдно. Пpишло мне тоже в взбудоpаженную мою голову, что pоли ведь тепеpь окончательно пеpеменились, что геpоиня тепеpь она, а я точно такое же униженное и pаздавленное создание, каким она была пеpедо мной в ту ночь, - четыpе дня назад... И все это ко мне пpишло еще в те минуты, когда я лежал ничком на диване!
Боже мой! да неужели ж я тогда ей позавидовал?
Не знаю, до сих пор еще не могу решить, а тогда, конечно, еще меньше мог это понять, чем теперь. Без власти и тиранства над кем-нибудь я ведь не могу прожить... Но... но ведь рассуждениями ничего не объяснишь, а следственно, и рассуждать нечего.
Я, однако ж, преодолел себя и приподнял голову; надобно ж было когда-нибудь поднять... И вот, я до сих пор уверен, что именно потому, что мне было стыдно смотреть на нее, в сердце моем вдруг тогда зажглось и вспыхнуло другое чувство... чувство господства и обладания. Глаза мои блеснули страстью, и я крепко стиснул ее руки. Как я ненавидел ее и как меня влекло к ней в эту минуту! Одно чувство усиливало другое. Это походило чуть не на мщение!.. На лице ее изобразилось сначала как будто недоумение, как будто даже страх, но только на мгновение. Она восторженно и горячо обняла меня.
X
Через четверть часа я бегал взад и вперед в бешеном нетерпении по комнате, поминутно подходил к ширмам и в щелочку поглядывал на Лизу. Она сидела на полу, склонив на кровать голову и, должно быть, плакала. Но она не уходила, а это-то и раздражало меня. В этот раз она уже все знала. Я оскорбил ее окончательно, но... нечего рассказывать. Она догадалась, что порыв моей страсти был именно мщением, новым ей унижением, и что к давешней моей, почти беспредметной ненависти прибавилась теперь уже личная, завистливая к ней ненависть... А впрочем, не утверждаю, чтоб она это все поняла отчетливо; но зато она вполне поняла, что я человек мерзкий и, главное, не в состоянии любить ее.
Я знаю, мне скажут, что это невероятно, - невероятно быть таким злым, глупым, как я; пожалуй, еще прибавят, невероятно было не полюбить ее или по крайней мере не оценить этой любви. Отчего же невероятно? Во-первых, я и полюбить уж не мог, потому что, повторяю, любить у меня - значило тиранствовать и нравственно превосходствовать. Я всю жизнь не мог даже представить себе иной любви и до того дошел, что иногда теперь думаю, что любовь-то и заключается в добровольно дарованном от любимого предмета праве над ним тиранствовать. Я и в мечтах своих подпольных иначе и не представлял себе любви, как борьбою, начинал ее всегда с ненависти и кончал нравственным покорением, а потом уж и представить себе не мог, что делать с покоренным предметом. Да и что тут невероятного, когда я уж до того успел растлить себя нравственно, до того от "живой жизни" отвык, что давеча вздумал попрекать и стыдить ее тем, что она пришла ко мне "жалкие слова" слушать; а и не догадался сам, что она пришла вовсе не для того, чтоб жалкие слова слушать, а чтоб любить меня, потому что для женщины в любви-то и заключается все воскресение, все спасение от какой бы то ни было гибели и все возрождение, да иначе и проявиться не может, как в этом. Впрочем, я не очень уж так ее ненавидел, когда бегал по комнате и в щелочку заглядывал за ширмы. Мне только невыносимо тяжело было, что она здесь. Я хотел, чтоб она исчезла. "Спокойствия" я желал, остаться один в подполье желал. "Живая жизнь" с непривычки придавила меня до того, что даже дышать стало трудно.
Но прошло еще несколько минут, а она все еще не подымалась, как будто в забытьи была. Я имел бессовестность тихонько постучать в ширмы, чтоб напомнить ей... Она вдруг встрепенулась, схватилась с места и бросилась искать свой платок, свою шляпку, шубу, точно спасаясь от меня куда-то... Через две минуты она медленно вышла из-за ширм и тяжело на меня поглядела. Я злобно усмехнулся, впрочем, насильно, для приличия, и отворотился от ее взгляда.
– Прощайте, - проговорила она, направляясь к двери.
Я вдруг подбежал к ней, схватил ее руку, разжал ее, вложил... и потом опять зажал. Затем тотчас же отвернулся и отскочил поскорей в другой угол, чтоб не видеть по крайней мере...
Я хотел было сию минуту солгать - написать, что я сделал это нечаянно, не помня себя, потерявшись, сдуру. Но я не хочу лгать и потому говорю прямо, что я разжал ей руку и положил в нее... со злости. Мне это пришло в голову сделать, когда я бегал взад и вперед по комнате, а она сидела за ширмами. Но вот что я наверно могу сказать: я сделал эту жестокость, хоть и нарочно, но не от сердца, а от дурной моей головы. Эта жестокость была до того напускная, до того головная, нарочно подсочиненная, книжная, что я сам не выдержал даже минуты, - сначала отскочил в угол, чтоб не видеть, а потом со стыдом и отчаянием бросился вслед за Лизой. Я отворил дверь в сени и стал прислушиваться.
– Лиза! Лиза! - крикнул я на лестницу, но несмело, вполголоса...
Ответа не было, мне показалось, что я слышу ее шаги на нижних ступеньках.
– Лиза! - крикнул я громче.
Нет ответа. Но в ту же минуту я услышал снизу, как тяжело, с визгом отворилась тугая наружная стеклянная дверь на улицу и туго захлопнулась. Гул поднялся по лестнице.
Она ушла. Я воротился в комнату в раздумье. Ужасно тяжело мне было.
Я остановился у стола возле стула, на котором она сидела, и бессмысленно смотрел перед собой. Прошло с минуту, вдруг я весь вздрогнул: прямо перед собой, на столе, я увидал... одним словом, я увидал смятую синюю пятирублевую бумажку, ту самую, которую минуту назад зажал в ее руке. Это была та бумажка; другой и быть не могло; другой и в доме не было. Она, стало быть, успела выбросить ее из руки на стол в ту минуту, когда я отскочил в другой угол.
Что ж? я мог ожидать, что она это сделает. Мог ожидать? Нет. Я до того был эгоист, до того не уважал людей на самом деле, что даже и вообразить не мог, что и она это сделает. Этого я не вынес. Мгновение спустя я, как безумный, бросился одеваться, накинул на себя, что успел впопыхах, и стремглав выбежал за ней. Она и двухсот шагов еще не успела уйти, когда я выбежал на улицу.
Было тихо, валил снег и падал почти перпендикулярно, настилая подушку на тротуар и на пустынную улицу. Никого не было прохожих, никакого звука не слышалось. Уныло и бесполезно мерцали фонари. Я отбежал шагов двести до перекрестка и остановился.
"Куда пошла она? и зачем я бегу за ней? Зачем? Упасть пеpед ней, заpыдать от pаскаяния, целовать ее ноги, молить о пpощении! Я и хотел этого; вся гpудь моя pазpывалась на части, и никогда, никогда не вспомяну я равнодушно эту минуту. Но - зачем? - подумалось мне. - Разве я не возненавижу ее, может быть, завтра же, именно за то, что сегодня целовал ее ноги? Разве дам я ей счастье? Разве я не узнал сегодня опять, в сотый раз, цены себе? Разве я не замучу ее!"
Я стоял на снегу, всматриваясь в мутную мглу, и думал об этом.
"И не лучше ль, не лучше ль будет, - фантазировал я уже дома, после, заглушая фантазиями живую сердечную боль, - не лучше ль будет, если она навеки унесет теперь с собой оскорбление? Оскорбление, - да ведь это очищение; это самое едкое и больное сознание! Завтра же я бы загрязнил собой ее душу и утомил ее сердце. А оскорбление не замрет в ней теперь никогда, и как бы ни была гадка грязь, которая ее ожидает, - оскорбление возвысит и очистит ее... ненавистью... гм... может, и прощением... А, впрочем, легче ль ей от всего этого будет?"
А в самом деле: вот я теперь уж от себя задаю один праздный вопрос: что лучше - дешевое ли счастие или возвышенные страдания? Ну-ка, что лучше?
Так мне мерещилось, когда я сидел в тот вечер у себя дома, едва живой от душевной боли. Никогда я не выносил еще столько страдания и раскаяния; но разве могло быть хоть какое-либо сомнение, когда я выбегал из квартиры, что я не возвращусь с полдороги домой? Никогда больше я не встречал Лизу и ничего не слыхал о ней. Прибавлю тоже, что я надолго остался доволен фразой о пользе от оскорбления и ненависти, несмотря на то, что сам чуть не заболел тогда от тоски.
Даже и теперь, через столько лет, все это как-то слишком нехорошо мне припоминается. Многое мне теперь нехорошо припоминается, но... не кончить ли уж тут "Записки"? Мне кажется, я сделал ошибку, начав их писать. По крайней мере мне было стыдно, все время как я писал эту повесть: стало быть, это уж не литература, а исправительное наказание. Ведь рассказывать, например, длинные повести о том, как я манкировал свою жизнь нравственным растлением в углу, недостатком среды, отвычкой от живого и тщеславной злобой в подполье, - ей-богу, не интересно; в романе надо героя, а тут нарочно собраны все черты для антигероя, а главное, все это произведет пренеприятное впечатление, потому что мы все отвыкли от жизни, все хромаем, всякий более или менее. Даже до того отвыкли, что чувствуем подчас к настоящей "живой жизни" какое-то омерзение, а потому и терпеть не можем, когда нам напоминают про нее. Ведь мы до того дошли, что настоящую "живую жизнь" чуть не считаем за труд, почти что за службу, и все мы про себя согласны, что по книжке лучше. И чего копошимся мы иногда, чего блажим, чего просим? Сами не знаем чего. Нам же будет хуже, если наши блажные просьбы исполнят. Ну, попробуйте, ну, дайте нам, например, побольше самостоятельности, развяжите любому из нас руки, расширьте круг деятельности, ослабьте опеку, и мы... да уверяю же вас: мы тотчас же попросимся опять обратно в опеку. Знаю, что вы, может быть, на меня за это рассердитесь, закричите, ногами затопаете: "Говорите, дескать, про себя одного и про ваши мизеры в подполье, а не смейте говорить: "все мы"". Позвольте, господа, ведь не оправдываюсь же я этим всемством. Что же собственно до меня касается, то ведь я только доводил в моей жизни до крайности то, что вы не осмеливались доводить и до половины, да еще трусость свою принимали за благоразумие, и тем утешались, обманывая сами себя. Так что я, пожалуй, еще "живее" вас выхожу. Да взгляните пристальнее! Ведь мы даже не знаем, где и живое-то живет теперь и что оно такое, как называется? Оставьте нас одних, без книжки, и мы тотчас запутаемся, потеряемся, - не будем знать, куда примкнуть, чего придержаться; что любить и что ненавидеть, что уважать и что презирать? Мы даже и человеками-то быть тяготимся, - человеками с настоящим, собственным телом и кровью; стыдимся этого, за позор считаем и норовим быть какими-то небывалыми общечеловеками. Мы мертворожденные, да и рождаемся-то давно уж не от живых отцов, и это нам все более и более нравится. Во вкус входим. Скоро выдумаем рождаться как-нибудь от идеи. Но довольно; не хочу я больше писать "из Подполья"...
* * *
Впрочем, здесь еще не кончаются "записки" этого парадоксалиста. Он не выдержал и продолжал далее. Но нам тоже кажется, что здесь можно и остановиться.
[1] Впервые опубликовано в журнале "Эпоха", январь-февраль, апрель 1864 г.
[2] Слово покиватель, очевидно, образовано Достоевским от просторечного "киватель"; так называется человек, который кивает головой, перемигивается или делает скрытно знаки кому-либо (см.: В.И.Даль. Толковый словарь, т.II)
[3] l’homme de la nature et de la verite- "человек в его истинной природе" (франц.). - Слова из "Исповеди" Жан-Жака Руссо (1712-1778): "Я хочу показать своим собратьям человека в его истинной природе - и этим человеком буду я".
[4] Речь идет о зубных врачах Вагенгеймах. Судя по "Всеобщей адресной книге Санкт-Петербурга", в середине 1860-х годов в Петербурге было восемь зубных врачей по фамилии Вагенгейм; вывески, их рекламирующие, были распространены по всему городу.
[5] Генри Томас Бокль (1821-1862) - английский историк. В своей книге "История цивилизации в Англии высказывал мысль, что развитие цивилизации ведет к прекращению войн между народами.
[6] Атилла (год рожд. неизв., ум. в 453 г.) - вождь племени гуннов, возглавлявший опустошительные военные походы на территории Римской империи, Ирана и Галлии.
[7] Стенька Разин - Разин Степан Тимофеевич (год рожд. неизв., ум. в 1671 г.) - донской казак, возглавивший крестянскую войну в России в 1667 - 1671 гг. В книге Н.И.Костомарова "Бунт Стеньки Разина" говорится о поголовном истреблении Разиным помещиков.
[8] Клеопатра (69 - 30 гг. до Р.Х.) - царица Египта из династии Птоломеев.
[9] Намек на рассуждения французского философа-материалиста Дидро (1713-1784) в его сочинении "Разговор Даламбера и Дидро" (1769): "Мы - инструменты, одаренные способностью ощущать и памятью. Наши чувства - клавиши, по которым ударяет окружающая нас природа...".
[10] Намек на "Четвертый сон Веры Павловны" в романе Н.Г.Чернышевского "Что делать?". Здесь описано "чугунно-хрустальное" здание-дворец, в котором по представлениям Ш.Фурье (см. его "Теорию всемирного единства", 1841) будут жить люди социалистического общества.
[11] О птице Каган, приносящей счастье, Достоевский услышал впервые на катарге.
[12] Колосс Родосский - бронзовая статуя Гелиоса, бога солнца, высотою в 31 м, изваянная в 280 г.до Р.Х. - одно из семи чудес света, стояла в гавани древнегреческого города Родоса.
[13] Имеются в виду образцовый хозяин - помещик Костанжогло, изображенный Гоголем во второом томк "Мертвых душ" (1852) и Петр Иванович Адуев из романа И.А.Гончарова "Обыкновенная история" (1847), отлиавшийся здравым смыслом и практической деловитостью.
[14] Намек на Поприщина в повести Гоголя "Записки сумасшедшего" (1835).
[15] Поручик Пирогов в повести Гоголя "Невский проспект" (1835), после того как он был высечен оскорбленным мужем - немцем ремесленником, хотел жаловаться генералу и одновременно "подать письменную жалобу в Главный штаб".
[16] Ср. с "ротшильдовской" мечтой Подростка.
[17] Здесь: гордого, возвышенного. Манфред - герой одноименной драматической поэмы Байрона (1817), в которой нашла отражение философия "мировой скорби".
[18] Сильвио из повести А.С.Пушкина "Выстрел" (1830) и Неизвестный из драмы "Маскарад" всю жизнь свою посвяшают идее мести.
[19] Заключительные строки стихотворения Некрасова "Когда из мрака заблужденья" (1845).
[i] И автор записок и самые "Записки", разумеется, вымышлены. Тем не менее такие лица, как сочинитель таких записок, не только могут, но даже должны существовать в нашем обществе, взяв в соображение те обстоятельства, при которых вообще складывалось наше общество. Я хотел вывести перед лицо публики, повиднее обыкновенного, один из характеров протекшего недавнего времени. Это - один из представителей еще доживающего поколения. В этом отрывке, озаглавленном "Подполье", это лицо рекомендует самого себя, свой взгляд, и как бы хочет выяснить те причины, по которым оно явилось и должно было явиться в нашей среде. В следующем отрывке придут уже настоящие "записки" этого лица о некоторых событиях его жизни.
Федор Достоевский
[ii] шенапан - (франц. - chenapan) - негодяй, хулиган, лодырь.
[iii] aux animaux domestiques - домашним животным (франц.).
[iv] мизер (франц.- misere) - нищета.
[v] суперфлю (франц.- superflu) - здесь - изысканная
[vi] бонтоннее (франц.- bon ton) - более хорошего тона.
[vii] droit de seigneur - право первой ночи (франц.).
[viii] silence! - тише! (франц.).
[ix] шамбр-гарни (франц.- chambres garnies) - меблированные комнаты.
Notes from the Underground (e-book)
[1] mostly gleaned from Russian sources, and identified “(ed.)”
[2] As the original Russian-language text has 36,000 words, it is technically a novella and not a novel (40,000 words minimum).
[3] “wigglers” – The word "pokivatel" (покиватель) was formed by Dostoevsky from the commonplace "kivatel", a person who nods his head, winks, or makes covert signs to someone. (ed.)
[4] l’homme de la nature et de la vérité – “man in his true nature”, a citation from the Confessions of Jean-Jacques Rousseau : "I want to show my fellow men man in his true nature – and that man will be me." (ed.)
[5] Wagenheim – a general name for dentists: according to the "General Address Book of St. Petersburg", in the mid-1860s there were eight dentists in St. Petersburg with the surname Wagenheim, and signs advertising them were distributed throughout the city. (ed.)
[6] John Gay (1675-1832), author of the celebrated play The Beggar’s Opera (1728). (ed.)
[7] Henry Thomas Buckle (1821-1862) was an English historian. In his book The History of Civilisation in England he suggested that the development of civilisation leads to the cessation of wars between nations. (ed.)
[8] Attila (?-453 A.D.) – leader of the Hun invaders who ravaged Europe in the 5th century A.D. (ed.)
[9] Stenka Razin (?–1671) was a Don Cossack who led a major and initially successful peasant rebellion (the “Peasant War”) in Russia between 1667-1671. (ed.)
[10] “the nature of a piano key or the stop of an organ” – an allusion to the reasoning of Diderot in his essay "Conversation between Dalembert and Diderot" (1769): "We are instruments gifted with the faculty of feeling and memory. Our senses are the keys on which the nature around us strikes...". (ed.)
[11] "Palace of Crystal" – an allusion to "Vera Pavlovna’s Fourth Dream" in Chernyshevsky’s novel What is to be Done?. It describes a "cast-iron and crystal" palace, which people of the future socialist society will live in, according to the utopian ideas of Fourier. (ed.)
[12] translated by Juliet Soskice.
[13] “Kostanzhoglos and Uncle Pyotr Ivanitchs” – referring to the exemplary landlord Kostanzhoglo portrayed by Gogol in Dead Souls, and to Pyotr Ivanovich Aduev in Goncharov’s novel An Ordinary Story who was distinguished by common sense and practical business-like behaviour. (ed.)
[14] "the King of Spain" – an allusion to Poprishchin in Gogol’s story "The Diary of a Madman". (ed.)
[15] the lieutenant Pirogov in Gogol’s story Nevsky Prospekt, who after he had been whipped by an insulted husband wanted to complain to his General and at the same time to file a written complaint to the police. (ed.)
[16] Manfred – the romantic hero of Byron’s dramatic poem of the same name. (ed.)
[17] droit de seigneur – the (supposed) right of the nobility to have the first night with local brides. (ed.)
[18] Silvio and Masquerade – Silvio from Pushkin’s story The Shot and Neizvestny from Lermontov’s drama Masquerade devote their entire lives to the idea of revenge. (ed.)
[19] Into my house come… – the closing lines of Nekrasov’s poem When From the Darkness of Delusion. (ed.)